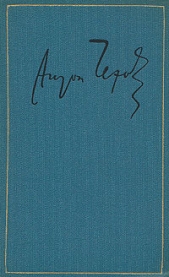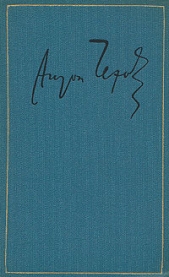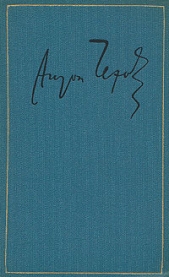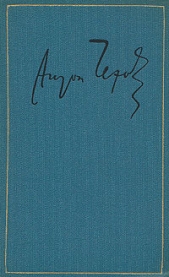Чехов. Жизнь «отдельного человека»
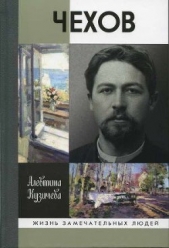
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Окончательно всё сорвалось в первом акте, едва Комиссаржевская, в белом, села на бутафорский камень и, освещенная театральной луной, прочла первые строки пьесы Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки…»
Публика, притихшая на короткое время, пустилась во все тяжкие. Именно партер и бельэтаж, а не галерка, как будто объединились с героиней пьесы, актрисой Аркадиной. Она сорвала домашнюю премьеру сына, посягнувшего встать в ряды «жрецов» искусства да еще с какой-то новой, необычной пьесой о «мировой душе». Зрители мешали представлению «Чайки». Тем самым, вольно и невольно, они выказывали отношение к автору. Он заставил их слушать какие-то нелепые разговоры, какой-то странный монолог со словами: «Общая мировая душа — это я… я… Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. <…> Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух».
В пьесе доктор Дорн не посмел остановить Аркадину и возразить ей. Слова одобрения он сказал Треплеву наедине. Зрители, которых заинтересовала «Чайка», не смогли остановить лавину насмешек, неудержимый смех вконец разыгравшихся весельчаков из публики. Между сюжетом пьесы (прерванное представление) и «сюжетом» спектакля 17 октября 1896 года (скандал в зрительном зале) возник резонанс.
На сцене Треплев убегал со словами: «Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне… я…» В зале, может быть, именно в это время Чехов вышел из ложи Суворина. Потом его видели за кулисами, в кабинете Карпова, в уборной Левкеевой.
Авилова запомнила, что поднялось в зале, едва опустился занавес после первого акта: «…хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись, — хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие негодовали:
— „Символистика“… „Писал бы свои мелкие рассказы“… „За кого он нас принимает?“… „Зазнался, распустился“…
Остановился передо мной Ясинский, весь взъерошенный, задыхающийся.
— Как вам понравилось? Ведь это чёрт знает что! Ведь это позор, безобразие…
Его кто-то отвел. Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головами. Всюду слышалось: Чехов… Чехов…»
Мимо Авиловой, сидевшей в амфитеатре, текла публика партера. Она направлялась в фойе, где разыгрывался второй акт спектакля, затеянного зрителями. «Режиссировали» его, а также исполняли главные роли петербургские литераторы и рецензенты. Сам по себе затевался своеобразный сговор: как завтра отщелкать Чехова в газетах. Театральные критики обменивались возмущением, остротами, злорадными репликами, будто уже строчили рецензии. Они уловили общее мнение: пьеса ужасна, автора надо «пробрать», сказать наконец вслух, что он «исписался».
Однако в фойе, помимо торжества литературных недоброжелателей Чехова, совершалось нечто и в стане его приятелей. В разговорах с противниками пьесы они не защищали «Чайку». Возмущались поведением публики, но соглашались, что пьеса не сценична, что она «странная».
Лейкин написал в дневнике вечером 17 октября: «По-моему, в том, что дал для сцены Чехов, нет пьесы, но есть совершенно новые типы и характеры, хотя и не особенно ярко намеченные. Это набросок пьесы — и только. Видно также, что Чехов стремился быть как можно более оригинальным. Ни банальностей, ни общих мест никаких, а публика Александринского театра любит банальности и общие места. <…> Друзья Чехова ушли из театра опечаленные. Мне самому было жалко его за неуспех».
В рецензии, появившейся на следующий день, Лейкин воспроизвел главные претензии литераторов и критиков к «Чайке»: «Она не для сцены»; — «Движения никакого»; — «Падение, полное падение»; — «Нет, он не драматург». Позже, в письме Чехову, Лейкин повторил свои впечатления от поведения рецензентов на премьере: «Они тотчас же после первого акта зашипели, забегали по коридорам и буфету, с апломбом восклицая: „Где тут действие! Где тут типы! Вода и вода“, — прямо подготовляя неуспех первого представления, ибо обращались с разговорами к бенефисным завсегдатаям, а те в большинстве случаев глупы и слушают то, что им говорят, сами ничего не понимая».
Особенно Николай Александрович запомнил возмущение Кугеля и рассказал в письме Чехову: «Предчувствуя, что он наутро начнет выливать помои на пьесу, я отправился в ложу Худековых и просил Николая Худекова, чтобы он взял Кугеля под уздцы и сдержал. То же самое прибавила от себя и добрейшая Надежда Алексеевна (сестра Л. А. Авиловой. — А. К.), его мать, которой пьеса нравилась! Сын обещал матери и мне, но наутро все-таки появилась ругательная заметка Кугеля, которая меня буквально взбесила».
У Лейкина была возможность защитить «Чайку». В той самой «Петербургской газете», для которой писал Кугель. Но он дал вместо рецензии зарисовки публики в манере своих «Осколков» — ни анализа пьесы, ни разбора спектакля. Хотя накануне, в дневнике, обещал «устами действующих лиц» своих «Летучих заметок» «указать на достоинства „Чайки“ как литературного произведения».
Понять оригинальность «Чайки» Лейкин не смог. Как и Суворин, чье мнение Лейкин слышал в антрактах и при разъезде публики. И воспроизвел в своих «заметках», где он обозначен главным внешним признаком — «борода лопатой»: «Так очень многие пьесы в первое представление проваливаются, а потом в последующие представления отлично смотрятся и даже хорошие сборы дают <…> ведь сегодня бенефисная публика. <…> Ей никогда ничего не нравится. <…> А к следующему представлению сделают необходимые купюры, и пьеса будет смотреться».
Какие купюры? Все новое, «странное» заменить привычным: «Нужны эффекты, нужна рутина сценическая, нужны банальности». Что же до злых реплик и выпадов, то не стоит обращать внимание: «Букашки, мошки, таракашки. Это они от зависти к таланту». Так Лейкин запомнил слова Суворина на премьере.
Сам Алексей Сергеевич изложил свое мнение в дневнике ночью, после спектакля: «Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, не слушающая, кашляющая, разговаривающая, скучающая. <…> Но в пьесе есть недостатки: мало действия, мало развиты интересные по своему драматизму сцены и много дано места мелочам жизни, рисовке характеров неважных, неинтересных. Режиссер Карпов показал себя человеком торопливым, безвкусным, плохо овладевшим пьесой и плохо срепетировавшим ее».
Далее шло признание: «Я убежден был в успехе и даже заранее написал и велел набрать заметку о полном успехе пьесы. Пришлось все переделать». Но главный упрек Суворин адресовал автору: «Если б Чехов поработал над пьесой более, она могла бы и на сцене иметь успех». Он защищал Чехова от тех, кого счел литературными завистниками. В дневнике иронизировал: «Мережковский, встретив меня в коридоре театра, заговорил, что она не умна, ибо первое качество ума — ясность. Я дал ему понять довольно неделикатно, что у него этой ясности никогда не было».
В рецензии Суворин обрушился на «глашатаев сценического неуспеха» Чехова. Прибег к пророчеству, одному из любимых своих приемов: «Ан. Чехов может спать спокойно и работать. <…> Он останется в русской литературе с своим ярким талантом, а они пожужжат, пожужжат и исчезнут».
Это пафосное заступничество оказалось сродни праведному негодованию Лейкина. Оба отозвались о «Чайке» почти снисходительно. Оба усмотрели в ней «сценическую неопытность» автора. Они почувствовали в пьесе что-то (отсутствие эффектов, равноправие действующих лиц, «горькую поэзию»). Однако «Чайка» осталась для них такой же тайной, как и для тех «судей», которых они от души бранили.
Но был зритель, который то, что рецензенты сочли недочетами, изъянами «Чайки», оценил как художественное открытие. Он не принадлежал к литераторам и журналистам. В пьесе талант Треплева угадал и признал доктор Дорн. «Чайку» сразу принял и восхитился ею юрист А. Ф. Кони. Это было еще одно созвучие между сюжетом пьесы и «сюжетом» ее судьбы в Александринском театре.