А. П. Бородин
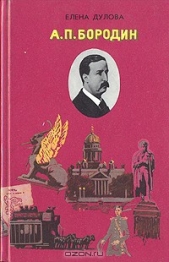
А. П. Бородин читать книгу онлайн
Рецензенты:
кандидат исторических наук Ю. А. Беляев,
доктор искусствоведения Е. Г. Сорокина
Повесть о жизни и творчестве великого русского композитора Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этот вечер наш герой приобрел знакомство, оказавшее решительное влияние на дальнейший ход его жизни. В толпе знакомых и незнакомых одно лицо сразу остановило внимание Бородина. Еще до того, как Боткин представил его незнакомцу, словно какая-то искра пробежала между ними. Пристальный взгляд огненных глаз, вся фигура этого человека мгновенно запечатлелись в памяти. Балакирев! Едва Боткин познакомил их, как Балакирев сел за рояль и начал играть прямо по партитуре сложное сочинение новейшего западного автора. Бородин следил и переворачивал листы. Это приятно изумило Сергея Петровича: Боткин и не подозревал такой «нотной образованности» в Бородине. А профессор химии наслаждался мастерством исполнения премудрого сочинения. Игра была выше всяких похвал.
Скажу откровенно, мне чрезвычайно приятно, что Балакирев почуял во мне «связующий элемент», то, на чем мы можем коротко сойтись: я, конечно, имею в виду страсть к «божественным звукам».
Собрался с духом, пошел на музыкальное собрание к Балакиреву. Отыскал дом Хилькевича, что на углу Офицерской и Прачешного переулка. Звоню. Дверь распахнулась, будто только меня и ждали. Какой-то молодой человек, изящный, небольшого росточку, приятным таким баритоном говорит:
— Несомненно мы знакомы, Александр Порфирь-евич.
Я гляжу и как будто припоминаю что-то, а что?
— Помните госпиталь?
Вглядываюсь еще, и мне мерещится уже в его чертах совсем детское лицо, то, которое я знал прежде. Мусоргский! Модест Петрович… Мысли мои повернули вспять к тому «мальчонке», с которым мы шесть лет назад коротали тоскливые часы в дежурной комнате. Оба мы тогда только что «вылупились». Он — в офицерики, а я — в ординаторы. По всем условиям госпиталь наш более походил на тюрьму, чем на место избавления от страданий. Палаты громадные, заталкивают по сотне коек, нет самого необходимого, инструменты в плачевном состоянии. А уж мне, свежеиспеченному медику, без конца «везло». Однажды доставили кучера от какого-то «сиятельства». Костью подавился, бедняга. Положение самое критическое. Делать нечего — приступил к действиям решительно, и… ржавые щипцы сломались. Душа моя — в пятках, а кончик от щипцов — у кучера в горле, вместе с костью. Уже вижу несчастного погибшим, себя разжалованным, сосланным в Сибирь. Руки трясутся. Все-таки собрался, одолел эту проклятую кость вместе с железкой. И тут кучер — бух мне в ноги! Господи, а у меня так коленки дрожали, что я с трудом не ответил тем же. Да это, впрочем, так, анекдотец. Бывали вещи похуже. Шестеро крепостных, которых некий полковник сквозь строй гонял. Мерзавец, я и теперь бы ему не пожелал со мной встретиться. А уж тогда своими руками готов был задушить, как увидел эти спины, иссеченные до костей. Пока врачевал, сам едва ли не в беспамятство впал. Трясло от ненависти к зверю-полковнику. Не мой это удел, врачевание… Экая тоска по ночам-то в больничных коридорах. Они у нас там бесконечные, мощенные плитами. Полумрак, хрипы, стоны, а от тебя, голубчика, толку мало, мало… сам себе опостылеть, бывало. И диванчик кожаный в дежурной комнате, век бы его не видать! Вот в дежурной комнате мы с Мусоргским и встретились, поскольку в военном госпитале положено, кроме врача, дежурить еще и офицеру. Редко можно здесь найти собеседника. И вот прихожу однажды, застаю мальчика лет семнадцати, офицера Преображенского полка. Хорошенький, изящный, словно акварельная картинка. Мундирчик с иголочки, в обтяжку, волосы напомажены, руки выхолены, французские слова цедит, жеманится. А как разговорились, таким умницей себя оказал. Да и о музыке потолковали. Экспансивны были оба, молоды чрезвычайно, так и проговорили сколько-то часов напролет. Потом у главного доктора нашего встречались. Дамы очень за этим игрушечным мальчиком ухаживали. А он им всякие салонные пьески на фортепьянах бойко так играл, просто бисером сыпал.
Александр Порфирьевич тотчас вспомнил наше первое знакомство в госпитале и этим тронул меня необыкновенно. Я, по правде сказать, наружно был тогда довольно пошлым мальчишкой. Но он каким-то чутьем понял во мне совершенно искреннюю, хотя и излишнюю восторженность, и непреодолимое желание всезнания, и утрированную внутреннюю критику, и жажду олицетворенной мечты. Хотелось бы мне знать, помнит ли он так же хорошо наше второе знакомство. Года три спустя. Я ведь уже был, по сути, другим человеком. Прошел душевную ломку, покорил идею болезненного мистицизма, совсем было овладевшую мною от безвыходности армейского положения моего. И, что важнее всего, перестал сомневаться в своем даровании. Надлежало расстаться с российской леностью и всеми силами служить музыке. Музыке и правде. Соединить военную службу с искусством мудрено. Отставка моя была делом решенным. Я, помнится, разглагольствовал о симфониях Шумана, играл с Бородиным в четыре руки и сразу взял тон знатока. А сам-то ведь еще только глядел в рот Балакиреву, ждал его приговора о себе. Да, как-то наш воспитатель возьмется за Бородина? Ведь Бородин не ребенок, которого надо водить, чтобы не упал. Впрочем, Балакирев воистину обладает магнетической силой. А нам всем, главное, надо работать, работать…
«Надо работать!» Как часто звучит в 60-е годы это горячее восклицание в устах молодых разночинцев, людей разного, но не большого чина и звания. Работать, чтобы жить своим трудом, приносить пользу народу и Отечеству. Такие мечтания не просто осуществить в России этих лет. В феврале 1861 года крестьянам объявлена воля. А что за воля без земли? И по всей России катится волна крестьянских волнений, бунтуют тридцать две губернии. Со своей стороны студенчество призывает молодое поколение к активным действиям: «Довольно дрожать, довольно заниматься пустыми разговорами, довольно бранить правительство втихомолку… наступила пора действовать». Сходки выливаются в демонстрации, начинаются аресты студентов. Шеф жандармов докладывает Александру II: «…возрастает с каждым днем смелость революционных происков, в особенности в сфере литераторов, ученых и учащейся молодежи». Обращается внимание государя на «вредный дух, проявляющийся в военных академиях». Вольнодумство распространяется «через выпускаемых офицеров в войска». Правительству отлично известно, что огромную роль в «смущении умов» играет некий отставной титулярный советник. В III отделение косяком идут доносы, в которых то и дело мелькает его имя: «…Правительство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский; это коновод юношей… это хитрый социалист… скорее отнимите у него возможность действовать…» — и тому подобные «патриотические призывы».
6 июля 1862 года Николай Гаврилович Чернышевский арестован и заключен в Александровский равелин Петропавловской крепости, в «покой» под номером одиннадцать. 14 декабря того же года здесь, в крепости, он начал писать роман «Что делать?» и кончил его 4 апреля 1863 года. Невероятно, необъяснимо, но факт — еще в феврале получено разрешение на публикацию. Журнал «Современник» начинает печатать роман. Надо ли говорить, какой восторг вызывают идеи, высказанные в романе, у всех, кто задает себе тот же вопрос: что делать? как жить? Молодая интеллигенция организует коммуны, подобные тем, о которых пишет Чернышевский. В одной из таких коммун, объединившей шестерых умных и образованных молодых людей, проживет три года Мусоргский. Но все-таки главное средоточие его дум и надежд, конечно, балакиревский кружок, милыг «музикусы». А их полку прибыло — теперь уже немыслимо даже представить, что когда-то в кружке не было добрейшего и талантливейшего «химикуса» Бородина.
«Петербург. Воскресенье, которое-то число марта 1863.
…Несмотря на всю пакость, совершающуюся на дворе: слякоть, дождь, ветер, я все-таки с удовольствием слежу за тем, как снегу становится все меньше и меньше, грязи все больше и больше, ухабы глубже и чаще, Нева синее, студенты на лекциях малочисленнее — время, значит, приспичило к экзаменам готовиться. На следующей неделе оканчиваю курс свой: в субботу последняя лекция… При всем том — странная штука — меня несколько тревожит: что бы ты думала? — вся процедура свадебная. Ужасно хочется, чтобы именно этот период прошел как можно скорее, как ни говори, а во всем этом есть что-то пошленькое, что-то натянутое. И вообще быть женихом как-то глупо, неловко, особенно перед свадьбою. Мне нисколько не кажется, например, странным, что ты будешь моею женою, что мы будем жить совсем вдвоем; все это как-то очень естественно… В ожидании тебя я начал одну химическую работишку — что выйдет, еще не знаю. Газовое освещение, которое у нас пробовали в среду, — великолепно. Особенно — коридоры, где мы жить будем…»

























