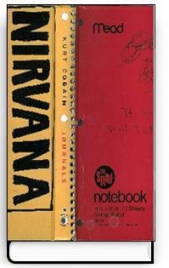Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Телепередача об Абрамове с моим участием выходила в эфир в августе дважды, но оба раза я нарочно не смотрел. Отзывы против ожидания были хорошие: и в «Литгазете» (В. Розов, Е. Сурков, О. Верейский), и в письмах (в частности вдовы Абрамова — Крутиковой Людмилы Владимировны), а также Залыгина и Брыля.
Слухи о нашем отъезде распространились по Костроме (это после приезда Грибова на 25-летие нашей писательской организации — и Фролова), кое-как отговариваюсь: темное дело, говорю, ничего конкретного пока нет.
А вернулся я из Москвы третьего сентября (после папиного дня рождения, после начала Никитиного учебного года в университете), гулял по Костроме и думал: после Москвы — словно в теплой воде хожу, легко на душе, словно будто воздуха вокруг больше, воли и покоя больше.
Богомолову моя рецензия (в «Известиях») на «Карьер» [299], конечно, не понравилась, но я к этому был готов: жаль, но пришлось привыкнуть к этой никому не нужной печальной размолвке — состязания на чистоту (принципов, поступков) в наши дни, пожалуй, никому не выиграть... надо бы помнить о главном, соединяющем — о верности себе в творчестве, в книгах, а тут, пожалуй, Быков чист, как редко кто.
22 ноября.
Как-то шел по вечерней улице и, не помню, что толкнуло, стал вспоминать пятьдесят седьмой: как приехал сюда, как глотал паск и фтивазид (так ли называю?) — бумажный мешок паска, — ну, не мешок, конечно, но хороший, плотно набитый пакет, и один, и второй, и еще как по утрам, стоя у стола, опрокидывал в себя два сырых яйца и спешил на службу, а вечерами, если возвращались к ужину хозяев, бывали угощаемы водкой, так как с водкой в этом доме было хорошо; средний сын Павла Михайловича Магнитского работал экспедитором ликеро-водочного вагона, то есть сопровождал вагоны с водкой. Портрет Павла Михайловича с шашкой на боку — Гражданская война! — посматривал со стены на наши пиршества. Сын-экспедитор, как открылось позднее, был героем боев на Малой земле, и в пору ее наступившей славы о нем стали писать костромские газеты.
В эти дни я вспоминаю пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой, нашу молодость. История сделала виток в тридцать лет и пусть иначе, но возобновила старые надежды. У нас ли или у тех, кто моложе, еще один шанс. Для нас это несомненно — последний шанс. Только что смотрел вторую возобновленную передачу КВН; она хороша не столько сама по себе, сколько напоминанием и возвращением. Именно этим она снова взволновала меня.
Я подумал, что если все будет хорошо и доживу до мая, то поедем с Томой на факультетский вечер выпускников — впервые за тридцать лет (это я), именно потому, что завершен круг, и если виток к маю не закончится и не начнется реакция, то 30-летие нашего курса можно будет отметить как праздник.
Вчера и позавчера последовали звонки от Залыгина и Богомолова. Залыгин говорит, что дела «наши» обстоят плохо, но небезнадежно. Богомолов говорит, что Залыгин лукавит и что первым замом он хочет взять Кривицкого из «ЛГ». «Наш современник» под управлением Викулова напечатал против меня статью Федя; многие говорили мне, что статья гнусная [300]. Я еще не читал, а может, обойдусь и без чтения. Владимир Осипович возмущен и собирается что-то предпринимать. Он рассказывал, что чуть ли не пятьдесят сочинителей из так называемых «сорокалетних» под руководством Бондаренко написали куда-то письмо против того, чтобы я вернулся работать в Москву.
Вчера ТВ снимало у нас дома сюжет для передачи о Сергее Маркове. То есть я сидел у своего стола и наговаривал пять-шесть минут. Вечером были у меня Ионас Мисявичюс и его молодой коллега Максим Иванников, студент Литинститута (семинар Евгения Винокурова). Может быть, я был откровеннее, чем следовало, но такое было настроение и доверие.
Настроение у меня этой осенью неважное. Я устал отвечать на вопрос (в том числе в письмах), уезжаем ли мы в Москву. Слух разнесся, без преувеличения, от края и до края. Хочу я или не хочу, но обсуждение этой темы меня задевает. И не потому, что я жажду этого возвращения. Со времени съезда я написал Залыгину единственное письмо, где интересовался, есть ли еще надежда. Да и письмо было, в сущности, вынужденным: Богомолов и Бакланов уговаривали меня, чтобы я «развязал» себе руки и мог бы пойти заместителем в «Огонек» к Коротичу. Для меня, разумеется, вариант с «Новым миром» лучше, но люди хлопочут обо мне, и я попробовал прояснить свое положение. Остался при той же неясности.
Журналы печатают то, что было невозможно напечатать несколько месяцев назад (воспоминания Трифонова о Твардовском, роман Бека, стихи [Вл. Н.] Корнилова, повесть Никольской). Отсюда — тоже возбуждение, и снова — память о 56-м.
23 ноября.
Этой осенью, а точнее с конца августа, я переживаю все сильнее обычного.
Перепишу-ка я записку Гуссаковской, переданную мне в Писательской конторе. Тут же был и Бочарников, и еще кто-то, а она сидела писала, отдала мне. Бочарников заметил, полюбопытствовал, но я вслух не прочитал. Правда, спустя полчаса Корнилов спросил, слышал ли я, что обо мне сообщила Би-би-си? Я удивился: «Это вам Гуссаковская сказала?» Он подтвердил, что «да», а я удивился: так, думаю, она растрезвонит всем. А записочка ее была такого содержания (дословно): «В пятницу (14 ноября) в 23.30 Би-би-си в последних известиях передала такое сообщение (утром не повторяли): └Последний по счету главный редактор самого престижного в Советском Союзе литературного журнала └Новый мир” Сергей Залыгин взял (под давлением извне скорее всего) вторым заместителем продажного литературного чиновника поэта Владимира Кострова. Первое место он упорно держит для неподкупного критика Игоря Дедкова, который живет в недоступной для иностранных журналистов Костроме с тех пор, как его исключили из Московского университета как защитника чешского освободительного движения”».
Кстати сказать (вспомнил Корнилова), недели с две назад у нас с Корниловым прошло «выяснение отношений» (он — любитель таких процедур). На партсобрании мы с ним перекинулись — неожиданно для обоих — резкими суждениями (я — в ответ), и вот теперь — «выясняли», отчего такое произошло? Весь этот вздор вспоминать не хочется, но он сказал, что я переменился (стал резче, категоричнее и еще что-то) после съезда: чит<ай> — избрания секретарем. Я очень удивился, но он стал уверять, что это ему сказали несколько человек. К сожалению, он не знает, что в этом смысле я не способен меняться, хотя иногда думаешь, что не мешало бы. Я думаю, что в его новой реакции на меня замешаны три «фактора»: мое избрание (малоприятное для него), моя статья против его друга — Бондарева и, наконец, новая политика в области литературы и идеологии вообще; в частности, допущение антисталинской литературы.
«Московский литератор» напечатал изложение речи Феликса Кузнецова на пленуме правления Московской писательской организации; заключительная часть речи, где выражена тревога по поводу публикации Набокова и Гумилева, а также в связи с возросшей ролью в нашей литературной памя<ти> таких писателей, как Пастернак, Булгаков, Ахматова, Мандельштам и другие (почему не Горький, не Фадеев? и так далее). Судя по этой речи, Феликсу пора покинуть свой пост, его игры в «либерала» и «демократа» закончились, то, что он сказал, позорно.
В «Москве» — статья Кожинова о ленинском понимании «национальной» культуры; <...> рассудительности ему хватило лишь на четверть статьи, дальше же понесло в обычное узкое и поганое русло: передержки, антисемитизм, ложь. И — аккуратнейшим образом выгораживает Сталина, сваливая все зло на троцкизм и забывая напомнить читателю, что троцкизм кончился к двадцать седьмому году. Продолжавшаяся после революции политическая борьба, затрагивающая все области жизни, в том числе и литературу, — характернейшая для всех революций, — изображена им как травля евреями всего русского, и прежде всего русских «святынь», точнее — уничтожение. Кожинов думает, что у его читателей нет памяти. Как евреи, так и русские, так и все прочие национальности были по обе стороны, если их было две; они были по все стороны, сколько бы их ни было.

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)