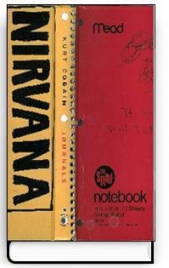Дневник 1953-1994 (журнальный вариант)

Дневник 1953-1994 (журнальный вариант) читать книгу онлайн
Дневник выдающегося русского литературного критика ХХ века, автора многих замечательных статей и книг.
***
В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.
В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.
Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.
Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете (оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.
Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.
Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.
Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. “Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы ”
…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе живое.
Олег Мраморнов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Два года — это два года его жизни и два года нашей; если понимать ясно, что жить мне остается недолго, то два года без сына — это удар и по мне, и по Томе; дожить ведь теперь нужно до возвращения и молить Бога, чтобы вернулся живым и здоровым.
«Все служат» — это не довод. Он не был доводом и для Толстого. Толстой лучше всех российских писателей понимал опасность и глубокое, заложенное в его природе бессердечие, бесчеловечие государства.
Нормальная наша жизнь закончилась: скоро будем оглядываться назад как на счастье.
20 июля я должен выйти на работу в «Коммунист»: должность — политиче-ский обозреватель по вопросам культуры и литературы. Сначала меня отвезли в «лес» на встречу с Биккениным (он сидит на правительственной «рабочей» даче — кажется, на ждановской — и участвует в сочинении каких-то документов) [309], затем утвердили на редколлегии.
Думать о дальнейшем не хочется: как я там буду работать, когда дадут жилье, как вообще будем жить в Москве, когда буду писать, если день станет тратиться на службу, — не знаю.
Сегодня проводил Виктора и Ларису [310] в Киев: у них тоже — тревожная, тяжелая пора: Виктору предстоит операция. Болезнь Паркинсона его извела, и он говорит, что согласен на все, что будет ему там предложено. <...>
Теперь свобода, особенно если сравнить с тем, что было. А разве не идея свободы жила в душах моих друзей в далеких теперь костромских шестидесятых? И в 70-е — разве мы ее предали?
Кому повезло, дожили, дождались. Не дожили: художники Николай и Татьяна Шуваловы, Ярослав Штыков, журналист Аркадий Пржиалковский, режиссер Владимир Шиманский, писатель Леонид Воробьев, искусствовед, поэт и книжник Альберт Кильдышев.
Мы-то дожили, но отчего радость, которая перехватывала горло, все чаще мерк-нет и подступает тревога? Или не та свобода? Или тревога напрасна? <...>
27.8.87.
Уже поздний вечер, прочел статьи к завтрашней редколлегии, стало грустно, да и давно было грустно, — вот и решил написать.
Дни рождения родных мешают мне приехать домой, а очень хочется. Вроде бы недавно был, а кажется, давно. И трудно поверить, что не прошло еще двух месяцев, как Никиту проводили в армию. Тоже давно было, такая даль.
Бакланов в «ЛГ» сказал, что я пишу для «Знамени» обзор. Как припер к стенке, деваться некуда, — я все чаще стал задумываться над этой статьей. Но надо еще кое-что прочесть [311].
Ходил сегодня в магазин. Внес за август 50 руб., а талонов получил на сто. До 5 сентября надо выкупить — выбрать. Всего же за месяц платишь 70, а талонов — на 140. Такие вот игры. Испытываешь странное чувство. Как за границей.
Хоть бы скорее решилось с квартирой. Были бы вместе, все стало бы легче. А так — плохо. Бездомье.
Очень непривычно целый день ходить в костюме. Душно, тяжело.
Возвращался с работы по улице Фрунзе. Навстречу семья: мужчина, женщина и ребенок. Отец объясняет: «А это служащие идут с работы. Шесть часов». И в самом деле — валом валят: офицеры, штатские, сплошь — с дипломатами. (И я среди них.)
Относятся ко мне с некоторым любопытством. Не знаю, что они там думают.
Читаю Вс. Н. Иванова («Дальний Восток», № 7) о Костроме конца века. Трогает это меня, да и знакомое узнается. И еще понравилось: ощущение государства с детства — как мое. На всю жизнь оторопь и неприязнь.
Если бы только мне писать... Не хочу в партчиновники, буду писать. <...>
4.11.87.
Эта Москва тяжела, будто хожу в чем-то тяжелом на ногах и все зависаю, теснюсь в какой-то густой массе.
Политические игры-маневры хороши, и некая благая дрожь приобщенности сопутствует им, но — недолго, как нечто пустое, мимоездное-мимоходное, будто все главное, незыблемое где-то оставлено и существует.
14.11.87.
<...> Что за жизнь! Здешняя суета, вздор, какая-то рассредоточенность — и милый, исчезнувший покой дома...
Жизнь, остановись! — надо было орать тогда, когда мы были все вместе; ну хотя бы втроем, как в последние годы.
Что эта Москва, мельтешение, подчинение, включение, — зачем?!
Жалею, видит Бог, жалею, горюю, устал.
<...> Утром сегодня, когда брился (после зарядки и душа), потемнело в глазах. Сидел ждал, когда пройдет. Встал, опять не то, опять сидел. Потом гулял, и сначала едва заметно заболела голова, а во второй половине дня — сильно. Вроде бы помогла таблетка анальгина. Но боль была свирепая, намучился.
6.1.88.
Волынское. С вчерашнего дня. Лацис, Колесников, Ярмолюк, Антипов, профессор-психолог Зинченко Вл. Петрович. Пять корпусов, мы во втором, комната моя — 202-я, на втором этаже. Широкое, высокое окно. Сосны, безлюдье, горят фонари на прогулочных дорожках. Сегодня, гуляя, видели зайца. Рядом бывшая дача Жданова; там, бывает, сидят такие же, как мы, — работают: сочиняют для кого-нибудь тексты (речи, статьи, доклады). Тихо, вечерами сижу за столом при настольной лампе и радиомузыке. Почти как дома, но в одиночестве. Но временами возвращается сосредоточенность, от которой отрывает служебная трата времени.
7.1.88.
Ездил в университет по просьбе Г. Пескова [312]. Много вопросов, но публика чересчур пестрая. Вечером приехал — наши смотрят «Декамерон» Пазолини. Успел на вторую половину. Насмотрелся того, без чего Пазолини мог бы обойтись. Остальное: толпа, соборы, художники, — прекрасно. Крупные планы — портреты в живописи. <...>
11.1.88.
Все уехали, остались Зинченко и я. Еще цековская машинистка, но она где-то в другом конце нашего дома. Почему Зинченке здесь лучше — не знаю; мне же не хоте-лось возвращаться к своим. Здесь я свободнее и сам себе хозяин. Здесь даже светлее — такой вроде бы пустяк. И нет этой духоты, из-за которой сегодня почти совсем не спал. Побыть одному — благо. Жаль, что сегодня не выяснилось насчет нашей дальнейшей работы. Мне очень хочется уехать домой — и два дня — счастье.
Зинченко рассказывал, что группа старейших академиков ходила к Горбачеву, возражая против назначения Марчука и проча «во владыки» Велихова. Тот якобы ответил, что согласен с ними, что Велихов — лучше, но не хочет вмешиваться в дела Лигачева.
Он же рассказывал, что Пельше под старость, хватаясь за телефон, говорил: «Слушаю, Иосиф Виссарионович!»
Из старых анекдотов:
Брежнев гуляет на том свете. Много знакомых, все здороваются. Среди них Крупская. Тоже здоровается. Он медлит. «Вы не узнаете меня? Я — Крупская». — «Как же, как же, помню, хорошо помню вашего мужа — Крупского».
Жесткий анекдот о Ленине. Рабочий: «Вы — рубль».
[Б. д.] [313].
Здесь, в Волынском-2, незаметно и беспричинно, без каких-нибудь резких знаков я почувствовал, как зыбко то, что происходит и называется «перестройкой». Вспомнилось похожее — чехословацкое, польское: как рядом с лидером всегда на втором плане торчало твердое лицо московского слуги. И приходил его час. И прелести либерализма увядали. И твердое лицо заполняло исторический экран.
Демократия в таком государстве, как наше, должна начинаться с недемо-кратических действий. Иначе отсчет демократического века не начнется никогда. А если начнется — прервется! Взгляните в это мрачное, едва скрывающее раздражение, широкое здоровущее лицо второго человека. Нагоняющий, подстерегающий — как на треке — в лучшей позиции. Это всем известно. Осте-регись! — готов я крикнуть. — Остерегитесь!

![Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)