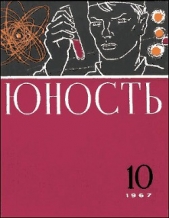Светозары
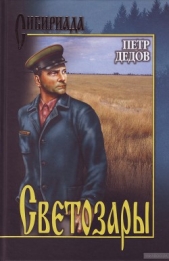
Светозары читать книгу онлайн
Сколько бы ни писали в разное время о Сибирской земле, да всё по-разному. Потому как велика и неповторима Сибирь, и нет в ней двух похожих уголков. Можно всю жизнь путешествовать по бескрайним степям, по тайге и болотам, а все равно каждый день открывать землю эту заново!
Роман известного сибирского прозаика Петра Павловича Дедова во многом автобиографичен и оттого еще более интересен и достоверен в раскрытии самого духа Сибирской земли.
Книга издана к 75-летию писателя..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Громобой тяжко вздыхает, переступает клешневатыми ногами на разбитых треснутых копытах. Я вытряхиваю из карманов черные крошки лебедяного хлеба и подношу на ладони Громобою, как делал когда-то мой отец. Конь осторожно берет их мягкими теплыми губами, благодарно кивает головою.
«Ты помнишь шрам на левом плече отца? — спрашивает он. — Это память от той ночи, когда ловили мы братьев Каменских. Были в нашей деревне такие богачи — три брата. Когда узнали, что раскулачивать их будут, сели на самых лучших своих коней и ускакали на озеро Чаны, там и прятались на островах. Потом стали мстить колхозникам. Ночью подожгли сначала крайнюю избу, а через несколько дней — следующую. Так подряд и жгли избу за избой. Каждый уже знал: если сосед погорел, значит, следующая очередь — его. И некоторые, не дождавшись беды, выходили из колхоза. Этих Каменские не трогали. Сколько их подкарауливали, сколько устраивали засад, но братья были неуловимы: видно, имели в деревне своих и всегда наезжали в ту пору, когда их никто не ждал. Но однажды комсомольцы все-таки выследили бандитов. Пустились в погоню. Мы с твоим отцом сразу обошли всех, за поскотиной стали нагонять братьев. И ведь знал отец, что у них обрезы, что они могут убить, а все-таки гнал меня вперед, потому что братья снова могли уйти — кони у них были добрые. Никогда, даже на скачках, я так не бегал. Даже топот своих копыт не слышал — он оставался далеко позади. Каменские сначала стреляли в нас, но когда все остальные преследователи сильно отстали, братья вдруг остановились: заинтересовались, наверное, что будет делать один человек против троих вооруженных. А может, была у них цель забрать меня. Они окружили нас и пытались стащить отца на землю. Но у него была сабля твоего дедушки Семена, и он стал отбиваться, рубить направо и налево. Одного из братьев сбил с коня, и тогда в него выстрелили в упор, он упал и завис на стременах, но в это время подоспели другие ребята и братьев Каменских схватили… Вот какой он был, твой отец, и хотел, чтобы ты вырос таким же храбрым…»
— Про этот случай уже рассказывала мне бабушка Федора, — сказал я. — Спасибо тебе, Громобой, что ты помнишь моего отца. Я стараюсь быть похожим на него, но только это шибко трудно. Кабы мне дедушкину саблю, я бы тоже расправился с бандитами и жизни своей ни капельки не пожалел. И Илюху Огнева заставил бы ползать на коленях и жрать землю, чтобы он не изгалялся над бабами да ребятишками… С саблею в руках жить можно, а вот как целыми днями ходить за плугом, когда на ладонях кровавые мозоли, и спина не разгибается от усталости, и на белый свет не хочется глядеть?
«Потерпи, уже осталось немного. Скоро разгромят наши фашистов, и тогда ты снова будешь бегать на озеро купаться, играть в чижик и в лапту».
— Ты считаешь меня ребенком, Громобой? А я ведь ребенок только годами, и мне смешно смотреть, как мальчишки гоняют мяч или бегают за чижиком. На моих глазах дезертир сват Петра убивал деда Курилу. Я слышал однажды, как тетка Мотря Гайдабура, истерзанная своими голодными ребятишками, призналась моей маме: «Натоплю пожарче печь и закрою трубу на ночь. Ляжем спать — и не проснемся. Легкая смерть — без мучений…» Но тетка этого не сделала и не сделает. А когда у эвакуированной из Ленинграда девочки со странным именем — Рита умерла мать и та осталась совсем одна, Мотря забрала ее к себе, а на благоразумные советы соседок беззаботно смеялась: «Когда ртов много, то одним меньше, одним больше — разницы нет…» Когда я бегал к маме на ферму, то видел, как во время отдыха вытягивалась на соломе толстая Мокрына Коптева и стонала басом: «Мужика бы мне, бабоньки… Хоть замухрышку какого завалящего…» И я понимаю это.
Я многое теперь понимаю. Напрасно, Громобой, ты считаешь меня ребенком. Я — старик. Маленький старичок. Мне смешны ребячьи игры и забавы. И только вот это осталось у меня от детства: я умею разговаривать с тобою, с березами, с цветами. Взрослые считают это глупостью, потому-то им живется труднее, чем мне… Однако заболтались мы с тобой. Нора за дело — солнце уже низко, а нам надо допахать свою норму, свой гектар. А то нагрянет Илья Огнев — беды потом не оберешься. Ты отдохнул немножко, Громобой?
Лошадь кладет голову на мое плечо, прикрывает глаза.
— Хватит нежиться, — строжусь я, — пора за работу.
Громобой никогда не уклоняется от хомута, не задирает вверх голову, как другие лошади. За свою долгую жизнь он давно, наверное, понял, что это бесполезное дело, оно ничего не даст, кроме побоев, а потому, завидев хомут, подходит сам, покорно сгибает шею и толкает в него голову, только держи покрепче.
И погонять Громовоя не надо. Столько он принял от человека мук, столько натерпелся побоев, но и теперь боится удара кнута, судорожно дергается, как от ожога, напрягается каждой жилкой, и тянет, тянет, пока не упадет.
Хорошо знает лошадь свое дело — не выступит из борозды, на повороте сама остановится и подождет, пока разверну я тяжелый плуг, да только вот силенок у нее осталось маловато. Пройдет сотню шагов — и бока начинают ходить ходуном, шерсть пятнами темнеет от пота, а в пахах закипает грязная пена. Но все равно, выгнувшись и опустив почти до земли голову, будет тянуть, пока не остановишь.
Тут и самому можно минутку отдохнуть, и только присядешь на гребень борозды и прикроешь глаза, как все тело охватит приятная слабость, и голова, одурманенная тяжелым духом развороченной земли, польется свинцовой тяжестью, а перед глазами потекут черными ручьями борозды из-под сверкающего лемеха…
Громобой фыркает и легонько натягивает гужи — это oн дает мне понять, что передохнул и надо двигаться. Чапыги плуга, до блеска вытертые моими руками, обжигают натруженные ладони, но скоро я привыкаю к боли и иду, тащусь шаг за шагом, пока красный туман не застелет глаза, а солнце сквозь этот туман не начнет маячить закопченной сковородою…
4
На быках, запряженных в скрипучие телеги, утром на полосу приехали сеяльщики: несколько доярок, мой дедушка Семен да старый дружок его Тимофей Малыхин, тот, что ездил когда-то к нам на заимку с сенным обозом. Мама за две версты как увидела нас с Громобоем, так соскочила с воза, да бегом, бегом, — через жесткую стерню, через вязкую пахоту.
С неделю не видел я ее — мы пахали далеко от деревни, жили на заимке. И вот уж летела она, как на крыльях, а у меня сердчишко к самому горлу подкатилось — ни охнуть, ни вздохнуть.
— Здравствуй, сынок мой миленький, голубочек мой сизокрылый!
Налетела, обняла, затормошила и как-то умудрилась сразу всего общупывать, обласкивать — от ног до макушки.
— Похудел-то, господи, одне косточки остались, краше в гроб кладут… А сапоги-то, боже мой, подошвы совсем отвалились… Да как же ты ходишь-то, да как же ты живешь-то, сыночек мой!..
— Мама-а! — заревел я в невыносимой к ней нежности, в глухой накопившейся тоске. — Мамочка-а! Возьми меня отсюда, умру я тут совсем…
Она осела в борозду, рыдая, приникла к моим разбитым сапогам. Подоспел дедушка Семен, стал неловко поднимать, уговаривать маму. Она успокоилась, только лицо было пепельно-серым, словно взялось землею. На коленях развязала узелок, трясущимися руками развернула тряпицу. Бог ты мой милый! Настоящие шанежки с творогом, поджаристые, румяные, и запах такой — аж тошнота подступила. Когда же это, в какие далекие годы я пробовал такую еду?
Дедушка неуклюже топтался вокруг — то хомут на Громобое поправит, то острие лемеха на палец попробует, — и все наговаривает что-то в свою красную бороду, будто не знает, к чему руки приложить. Изменился он сильно после болезни, похудел, суетливым каким-то стал, а волосы на голове истончились и поредели, как пушок у новорожденного стали.
Звеньевым у сеяльщиков был дед Тимофей. Он-то и нарушил нашу семейную идиллию, гаркнув надтреснутым басом:
— Станови-ись!
Бабы выстроились в ряд, шагах в десяти одна от другой. На шее у них, как пионерские барабаны, висели лукошки с пшеницей.