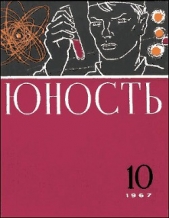Светозары
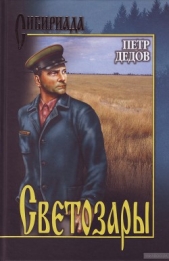
Светозары читать книгу онлайн
Сколько бы ни писали в разное время о Сибирской земле, да всё по-разному. Потому как велика и неповторима Сибирь, и нет в ней двух похожих уголков. Можно всю жизнь путешествовать по бескрайним степям, по тайге и болотам, а все равно каждый день открывать землю эту заново!
Роман известного сибирского прозаика Петра Павловича Дедова во многом автобиографичен и оттого еще более интересен и достоверен в раскрытии самого духа Сибирской земли.
Книга издана к 75-летию писателя..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечером в нашей избе собрались бабы. Видно, женитьба бригадира растревожила их не на шутку. Отвыкли они от подобных событий за три года войны.
Похудели, потускнели бабоньки, лица осунулись да заветрели на беспощадном степном солнце, одни лишь лбы у всех молочно белеют — почему-то в поле женщины всегда работают в повязанных до глаз платках. Только Мокрына, Прокопия Коптева жена, кажется, еще толще стала. «Животная, а не человек, — отзывалась о ней моя бабушка. — Ничо к ней не прилипает. Наварит картошечных очисток пополам с подсолнечными шляпками, навернет цельный чугунок — и хоть бы понос прохватил. Зимой в одних опорках на босу ногу гарцует, а уж работать возьмется — черенки у вил трещат. Жеребец, а не баба! Да только к работе-то не шибко прилежна. Анадысь захожу к ней — храпит себе на полу среди бела дня, ажно пузыри отскакивают. А в избе грязища — черт ногу сломает. Мухотищи расплодилось, так и гудет, глаза вышибает. «Мокрына, — говорю, — ты хоть бы порядок в избе-то навела, свежему человеку и зайти стыдно». — «Кому стыдно, — отвечает, — пущай не заходит». Вот и весь ее сказ!»
Теперь, сидя в нашей избе, Мокрына раскуривала огромную самокрутку, и дым валил из ее рта, как из печной трубы.
— Задушишь нас всех своим табачищем-то, — вышла из терпенья тетка Матрена Гайдабура.
— Нюхайте, нюхайте, а то уж, поди, забыли, как мужиком пахнет, — хриплым басом захохотала Мокрына.
— Дак, забудешь, — вздохнула Дунька Рябова, мамина подружка. — По нынешним временам — и дед Курило первый парень на селе.
— И вот ведь какая несправедливость, — сказала Киндячиха, жена бывшего бригадира. — Наши мужья где-то кровь проливают, а этот пес, Илюха-то, по девкам шастает, как сыр в масле катается. Такую девку загубил, идол слюнявый…
Тетка Матрена всхлипнула, промокнула глаза уголком платка.
— Шибко уж слезы у вас близко, — заругалась на нее бабушка Федора. — Чуть што — и нюни распускаете. Ты моли бога, чтоб Санька твой живой-здоровый вернулся. Не такую еще кралю себе отхватит, не Тамарке чета.
— Девка уж больно хороша, — вмешалась мама. — И в кого только такая красавица уродилась?
— Ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца, — снова захохотала Мокрына.
— На личико — яичко, а внутри, может, болтушок, — сказала бабушка.
— Оно так, — поддержала Дунька Рябова. — Правду говорят: с лица воды не пить, лишь бы ум не купить.
— Дак я слышала — по доброму согласию у них? — продолжая всхлипывать, спросила тетка Матрена.
— А кто ж их знает, — отозвалась Дунька. — Мне другое сказывали — будто изнасильничал он Тамарку, запугал. И Анне, матери ее, пригрозил: если, мол, пикнешь — голодом заморю, тягла не дам дров или сена привезти.
— Да это што же такое на свете деется? — опять возмутилась Киндячиха. — Неужто на него, идола, никакой управы, никаких властей нет?
— В таких делах власти не помогут, — рассудила бабушка Федора. — Вот ежели бы Тамарка пожаловалась…
Посудачили бабы, повздыхали, даже всплакнули гуртом о живых и погибших мужьях да сыновьях — с тем и разошлись по домам. Завтра, чуть свет, снова в работу впрягаться…
5
И натерпелись же мы страху в ту ночь! Сейчас вспоминаю — поджилки трясутся…
Был конец августа — время холодных зорь. Уже и утренники перепадали: выйдешь раненько во двор — крыши побелены инеем, соломинки на темной земле серебрятся, как вязальные спицы. Трава хрусткая и будто мукою посыпана. А с огорода веет ядреным запахом побитой холодом картофельной ботвы и конопли.
Такую приятную картину по утрам видели те, кто ночевал дома. А мы продолжали пасти быков, и ночные холода становились для нас все невыносимее. Теперь уже не спасали и бычьи шевяхи, к которым мы бежали наперегонки, завидев издали желанный парок. Совсем оскудела трава, скудными стали и шевяхи. Приходилось тереть нога об ногу, чтобы размазать тепло.
Наши ноги залубенели, потрескались и покрылись кровавыми цыпками. Мы их смазывали сметаной, гусиным жиром, но и это уже не помогало. Зато подошвы так задеревенели, что по стеклу пробежишь — и не поранишься.
Большой было радостью, если находили копну прелой соломы или сена. Уберешь верхние сухие пласты, залезешь в самое нутро, в затхлую горячую сырость, — и спи до утра, как на печи. Но спать-то всем нельзя, кому-то по очереди надо караулить стадо.
Быки здорово уставали за день, но голод для них был сильнее усталости. Полежат часок и снова разбредаются в поисках скудного корма. Рогатый дьявол Шаман, опытный вожак стада, в любом месте безошибочно находил посевы овса или пшеницы и пер туда с тупым, яростным упрямством, ведя за собой всех своих собратьев. Он и спал-то всегда одним глазом, а другим настороженно следил за пастухом: стоило только тому, сморенному сном и усталостью, прикорнуть хотя бы на минутку, бык бесшумно поднимался, расталкивал рогами остальных, и в мгновенье ока весь табун исчезал, как сквозь землю проваливался. Сравнение «неповоротливый, как бык», наверное, придумал человек, который никогда не имел с быками дела.
Но все-таки мы перехитрили Шамана. И заслуга в этом принадлежит все тому же Ваньке-шалопуту. На его совести было уже несколько потрав, он вообще не мог дежурить один — засыпал сразу, как куренок. И однажды придумал: когда стадо легло на отдых, Ванька тоже свернулся калачиком около Шамана, привалился к его теплому боку, угрелся и безмятежно заснул. Бык почуял, что стража спит, начал подниматься и разбудил Шалопута.
С тех пор все дежурные стали пользоваться Ванькиным способом и потрав больше не было.
Другим спасением от холода, кроме прелых копен и остожий, был костер.
Костер! Радостным теплом и светом твоим озарено мое детство! И теперь, когда ушло оно безвозвратно, аукнулось в чистых березовых колках и скрылось навсегда за долами да лесами, и теперь в трудную нору своей жизни, лишь подступит к сердцу холодная тоска, отыскиваю я свой потрепанный, прожженный и пропахший дымом да сухими травами рюкзачок, сажусь на первый попавшийся транспорт и качу за город. Где-нибудь у чахлого, обглоданного и загаженного неутомимыми туристами перелеска собираю сухие былки, ломкие веточки и развожу костер. И часами могу сидеть у очистительного огня, и в жадных языках пламени маячат передо мною видения далеких дней…
Наверное, у каждого есть свой костер детства. У одних — рыбачий или охотничий, овеянный радостью первого общения с природой, у других — пионерский, с песнями и плясками; но для нас-то, детей войны, костер был не игрой, не забавой, а источником живительного тепла и света, как для тех первобытных людей, наших далеких предков.
Так как же мне его позабыть, мой костер детства! Набегаешься, бывало, сгоняя в табун непослушных быков, — ноги от холода ломит, аж в затылке больно отдает, кажется, все, выдохся и жить больше не хочется, а прибежишь к огню, почти в самые угли сунешь занемевшие ступни, и почувствуешь сразу, как потечет по всему телу тепло, и вся боль, и вся горечь в нем растопятся, скупой слезинкою стекут по щеке…
А костер тихонько потрескивает, постреливает угольками в темноту, огонь корежит черные сучья, из-под сухих бычьих шевяхов валит белый дым, пропитывая одежду и тело неистребимым запахом кизяка.
Дед Курило лежит под полушубком, выставив к огню пегую бороду, и ничего не видит, ничего не слышит вокруг. Язычки пламени пляшут в его глубоких, мертвенно-неподвижных глазах, — о чем он думает, о чем вспоминает?
Василек тоже лежит на животе, подперев кулачонками подбородок. По лицу его блуждает мечтательная улыбка, он всегда так: улыбается чему-то, да и забудет про улыбку — она долго теплится на его конопатой рожице.
Из темноты раздается тяжелый топот. Василек вздрагивает, я вскакиваю на ноги, только дед Курило остается безучастным ко всему. В круг света на рысях врывается Ванька-шалопут верхом на Шамане. Бык, круто пригнув голову, осаживает у самого огня, и Ванька кубарем летит через костер.