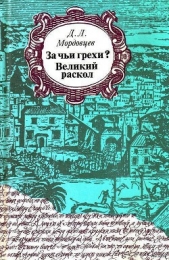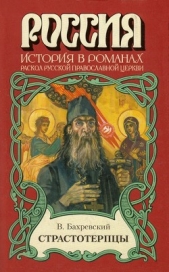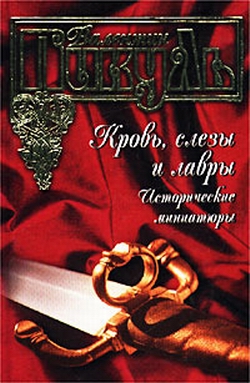Святой патриарх
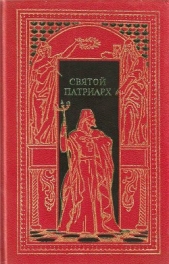
Святой патриарх читать книгу онлайн
О союзе аскетического раскола с неудержимой вольницей в один из сложнейших периодов отечественной истории рассказывает известный русский писатель Даниил Лукич Мордовцев в своих произведениях: романе «Великий раскол», повести «За чьи грехи?».Главными героями книг являются патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан Разин и, конечно же, тревожное и смутное время
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Осип свою смерть заслужил, — успокаивал старший.
— Он был боярский похлёбник… мягко стлал… Никон продолжал нервно погромыхивать чётками, как бы силясь не слышать зловещего голоса совы. Старший из казаков нетерпеливо двигался на лавке, по-видимому, не решаясь сказать то, что у него было на душе. Он крякнул. Младший глянул на него значительно.
— А мы к тебе, святой отец, по делу, — начал старший нерешительно.
Никон вопросительно вскинул на него своими угрюмыми глазами.
— По делу?
— По великому делу…
— Что ж, сказывай. — Голос старика дрогнул.
— Не в Соловки мы идём…
— Не Соловки у нас на уме, — пояснил младший.
— К тебе мы пришли…
— За каким делом?
— Дон прислал тебе, святейший патриарх, своё великое челобитье…
Он остановился. Никон ждал… А из рощи всё доносится этот стон…
— Опростать тебя отсюда приговорил Дон…
У Никона веки дрогнули… Рука, перебиравшая чётки, застыла…
— Опростать и от бояр, — добавил младший.
Голова Никона опять заходила… «Нет, нет, нет…»
— Пошли ты с нами на Дон грамоту: тихому-де Дону твоё благословенье, навеки нерушимо, а боярам-де, твоим и государевым супротивникам, неблагословенье…
— Анафема-проклят, — пояснил младший.
— В те поры мы в Кругу грамоту вычитаем и, стекавшись с Запорогами, на бояр ударим…
— На семена не оставим…
— И тебя, святителя, опростаем…
— И будешь ты патриархом по гроб жизни…
В это время под окном что-то хрустнуло… Никон вздрогнул и испуганно глянул на окно… Голова младшего казака высунулась туда…
— А! Князь!.. Что не спишь?
— До ветру малость вышел, — послышался смущённый голос князя Шайсупова, который тихонько пробирался к окошку, чтобы, по московскому обычаю, подслушать. — До ветру…
— А, то-то… и носом слыхать, — насмешливо заметил казак, — несёт…
— Ишь, шутник, право, а! — отшучивался пойманный князь.
— Шутник ты, князь: другово места не нашёл до ветру, окроме этого окна…
Смущённое татарское лицо глянуло в окошко…
— Не спится что-то, — как бы извинялся он перед Никоном. — А вы об чём тут беседуете?
— О божественном, — пробурчал старший казак.
— О перстах, — пояснил младший.
Никон сидел ошеломлённый. Глаза расширились, как от испугу, голова тряслась ещё пуще, как бы всё гоня от себя и отрицая: «Нет, нет, нет…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Кажись, всё написал… А крепонько-таки написано… Может, где и прилгал малость, да добро! Лишь бы крепонько… что дивить! Прилыгаю… А сказано не нами: «Ложь конь во спасение…» Не мимо идут словеса сии… Да и апостол Пётр, — на нём же, аки на камне, созиждал Христос церковь свою — и Пётр-ат святой прилыгал малость спасения ради… «Язык-де твой яветя творить, что и ты-де с ним человеком заодно…» «Нет, — говорит, — не вем человека сего…». А петель-ту и возгласи…
Так бормотал сам с собой Никон далеко за полночь, сидя у стола и рассматривая исписанный им лист бумаги — письмо к царю: он всё писал по уходе казаков и пристава, не спалось ему от старости, да и возбуждён он был речами казаков.
— Да, отрёкся апостол, а петель-ту и возгласи…
И где-то в монастыре, далеко, запел петух… Никон вздрогнул…
— Ишь ты, евангельская птица поёт…
Он перекрестился, зевнул, снова перекрестился.
— А нет и ноне не усну… Сем-ка прочту, что я написал великому государю.
И, надев на нос круглые, огромные, словно на воловьи глаза, очки, он начал тихо читать:
— «И ноне я, государь, болен, наг и бос, и креста на, мне нет третий год, стыдно и в другую келью выйти, где хлебы пекут и кушанье готовят, потому многие зазорные части не покрыты. Со всякой нужды келейной и недостатков оцынжал; руки больны, и левая не поднимается; на глазах бельмы от чаду и дыму; из зубов кровь идёт смердящая и не терпят ни горячего, ни холодного, ни кислого; ноги пухнут, и оттого не могу церковного правила править; а поп один, и тот слеп, говорит по книгам не видит; приставы ничего ни продать, ни купить не дадут; никто ко мне не ходит, и милостыни просить не у кого…» Крепонько-таки, крепонько… а и так бывало, — как бы оправдывался он сам перед собой. — «Оглашают меня кирилловские, — продолжал он читать, — будто я их монастырских людей бью, а я никого не бивал. Ноне строитель Исайя здесь, в Ферапонтове, у келейного дела приставлен, а у меня их поварок Ларка, и оный Ларка ко всякому делу, о чём я ему молвлю, говорит: «Добр Астарт». А в древнем писании, государь, идол был некий сидонский, Астарт, и которые его за бога почитали, приглашали: «Добр Астарт». Я ему, Ларке, говаривал много раз: не зови меня Астартом; я, благодатью божиею, христианин, а не Астарт. И он, Ларка, не перестал зовучи меня Астартом. Я жаловался на него строителю Исайе, и строитель севодни смирял его перед нашею кельею плетьми, а не я его бил…» Что ж, не зови идолом, — снова оправдывался старик, — а то на! Добро-ста, говорят… то-то добро-ста! «Прислал ты мне, государь, онамедни белуг, да осетринки, да лососинки, да коврижек. А я было ожидал к себе твоей государской милости и овощей, винограду в патоке, яблочек, слив да вишенок, только тебе о том господь бог не известил, а здесь этой благодати никогда не видаем, и аще обрёл буду пред тобою, государь, пришли господа ради убогому старцу. Да ещё я тебе, государь, докучаю: которые здесь монастыри бедные, и те ничего не дают положенного с них, а Кириллов и богат, а столовых запасов не присылает. Ноне грибов и прислали, токмо таких скаредных и с мухоморами, что и свиньи их не станут есть; рыбу прислали сухую, только голова да хвост; хмелю прислали с листом, что и в квас класть не годится. Прислали, чего не прошено: стяги говяжьи и полти свиные на смех. Платьем и обувью я с братьею обносился, а сшить некому, прислан из Павлова монастыря портной швечишко не умеющий, кроме шубного и сермяжного сшить и скроить о себе ничего не умеет. От недостройки в погребе все запасы овощи перемерзают по зимам, помираем с голоду, наги и босы ходим…»
Он взглянул на свои плисовые сапоги…
— Что ж! Хоть и плисовы, эка важность! — сердился он на кого-то. — А они в бархате рытом да золоте…
Он опять зевнул и перекрестился… Опять запел петух ближе, громче…
— Ишь, разорался, — сердился он на петуха, — а свово дела не делаешь — куры-те ничего не несут…
Он глянул на окно… Восток начал бледнеть, к утру идёт, брезжит… Опять зевок…
— А всё сна нету… Сон мой на патриаршем престоле остался, там и сидит; в белом клобуке мой сон ходил, так сняли…
Голова затряслась шибче, он сердился… Зашуршал бумагой…
— «Ещё, государь, от бедного своего прошенья к тебе не перестану, яко червь от древоточения, понеже утробою стесняем от Кириллова монастыря, что против твоего указа столовых запасов не присылают; а питаюся я твоим государевым жалованьем, покупаючи столовые запасы дорогою ценою, да и купить стало негде — пустое место и от города удалело, а у меня клячишки свои есть и коровёнка для-ради молочишка и маслица, а скотинных кормов, сен и иных, нет, а ближе Кириллова монастыря иных монастырей нет же. А в Кириллове монастыре смеются и поругаются мне, будто я у них в монастыре все коровы приел, а мне приесть их некем. А ныне священник, и дьякон, и простой старец просятся от меня прочь, скудости ради пищныя, потому что их кормить стало нечем, и келейного ради беспокойства, потому что печей нет; а держать мне их насильно нельзя, понеже они терпели у меня, помня мою милость к себе прежнюю. Милостивый, милостивый, милостивый, великий государь, сотвори, господа ради, со мною милость, не вели Кириллова монастыря старцам меня заморить. Да ведомо мне учинилось, что будто некий чернец, именем Сергий, дьякон, говорит про меня, будто я не чаю воскресенья мёртвых. А я мню, что и тебе самому памятно, идеже прилучится при твоём приходе во святую церковь, идеже прилучится символу веры глаголатися, никому иному оставляю глаголати, но всюду сам и доднесь. И ты, господа ради, не поверь тому и, восприми ревность Давида, погуби глаголяющия неправду. Господа ради вели печи сделать, а не велишь, и братья разбредутся розно, и я останусь один. Ох, увы мне, что буду!»