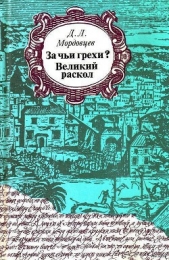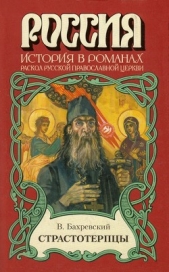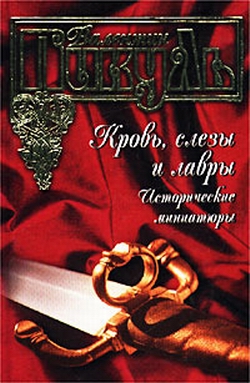Святой патриарх
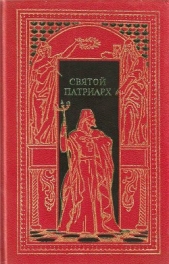
Святой патриарх читать книгу онлайн
О союзе аскетического раскола с неудержимой вольницей в один из сложнейших периодов отечественной истории рассказывает известный русский писатель Даниил Лукич Мордовцев в своих произведениях: романе «Великий раскол», повести «За чьи грехи?».Главными героями книг являются патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан Разин и, конечно же, тревожное и смутное время
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И теперь, когда он сидел на крыльце и, тряся головой, кряхтел, лицо его выражало, что он вот-вот на кого-нибудь сейчас накинется, на кого — это ему всё равно, только бы поозорничать да выкричаться, благо ему всю ночь черти спать не давали, а просто старику не спалось, и в голову лезла всякая дрянь…
Один воз подъехал к крыльцу. Сморщенный и чёрный, как груша на лотке, монашек, который вёл клячонку в поводу, низко поклонился и подошёл под благословение…
— А ты прежде покажь, что привёз, доброе ли, а тогда и суйся под благословение, — сразу обрезал его озорной старик.
Монашек попятился. Исайя, кликнув чернеца от другого воза с сеном, стал развязывать рогожу, покрывавшую воз. Этот другой чернец тоже сунулся было под благословение, но Никон прогнал его клюкой…
— Сено-то у тебя всё гниль да бурьян… леших чертей им кормить разве, — ворчал он.
Развязали первый воз.
— Что в плетёшке там? — воззрился старик.
— Грибки, святой отец: рыжики да белые, — смиренно отвечал морщенный монашек.
Никон, опираясь на клюку и кряхтя, встал, подошёл к возу и стал клюкою ковырять связки сушёных грибов.
— Ишь, грибешки каки! Все скаредные! — ворчал он и, вздев на клюку одну связку, тыкал её в нос то иноку Исайе, то Шайсупову.
— Ишь, скареды, с мухомором все!
— Помилуй, святой отец! Грибки, как есть, знатные, — защищался Исайя.
— Велика их знатность! На, нюхай, князь, — тыкал старик грибами в нос Шайсупову. — Гниль одна…
— Ничево, запашок, как следует, хорош запах, — одобрял грибы пристав, лукаво улыбаясь.
— То-то запашок! Смердятина одна! — брюзжал старик. — И свиньи жрать не станут…
Грибы осмотрены наконец и охаяны на чём свет стоит. Дошла очередь до других запасов.
— А тут что? — тыкала клюка в полог.
— Тутотка рыбка сушена да вялена, тешечка межукосна, вязижка в пучечках, — пояснял Исайя.
— А ну, покажь.
Развёртывается полог, показывается рыба.
— Ишь, сушь какая! — накинулся старик и на рыбу. — Голова да хвост только, а рыбы нету…
— Помилуй, святой отец, как голова да хвост! — всплеснул руками Исайя.
— А это что! Видишь?
И клюка действительно тыкала только в головы да в хвосты.
— Голова да хвост, всё хвосты…
— Господи! Да рыба-то цела, не резана, куда ж туловам у ней деться? — вопил Исайя. — Вот оне, целы рыбки, всем телом…
— Али у рыбы тело! — накинулся старик на неудачное слово. — Так у рыбы тело?
Исайя молчал и только моргал глазами. Шайсупов кусал губы.
— Тело у рыбы? Сказывай, князь! — набросился Никон с экзаменом на пристава. — Тело? А?
— Что ж, мясо рази? — улыбнулся пристав. — Мясо скоромное, а рыба постна: стало, не мясо, а просто рыба; рыба и есть, — рассуждал он, — рыба не мясо, курица не птица.
— И у собаки тело? — приставал Никон опять к Исайю. — А? Тело у пса?
— У человека тело и у Христа, — нашёлся наконец совсем загнанный Исайя.
— То-то же! А то на! У белорыбицы тело! У поросёнка тело! — сердито поучал старик.
Перерыл клюкой и вязигу… И вязига не понравилась…
— Худа, что жила баранья… пироги только гадить такой вязигой…
Поковырял клюкой и тёшки и на тёшки поворчал:
— Межукосны… то-то! Всё бы поплоше… А в мешке что? — продолжал досмотр.
— Хмелёк на квас да на бражку, — был ответ.
— Развяжи, покажь.
Развязали мешок. Старик брезгливо зацепил горсть хмелю, поднёс к глазам, к носу, понюхал, поковырял другой рукой…
— И хмелишко скаредный. — Таково было заключение после осмотра.
— Хмель доброй.
— Доброй, с листом, точно табачище проклятой.
Исайя только пожал плечами. Пристав зевал от скуки: ему давно хотелось купаться.
— Ещё чего прислали? Сыми-ко циновку.
Сняли циновку. Голова старика так и заёрзала из стороны в сторону, лицо покраснело…
— Это ещё что! А?
— Стяги говяжьи солены да полти свиные.
— Али я мясоядец! Али я не чернец! А? Еретик я, что ли!
Старик так взбеленился, что стал клюкой выбрасывать стяги и полти наземь и топтать ногами…
— А! На смех прислали мяснова! A! Вот же вам!
— Господи! Что ж это такое! — взмолился Исайя. — Да это не тебе присылка, а работным твоим людишкам, портному швечишке, шерстобиту да приспешнику, мирянам все.
Но старик и слышать ничего не хотел. Он бы, вероятно, ещё долго шумел и горячился, если бы не заметил в воротах баб и мужиков с котомками. При виде их он сразу присмирел. Он видел, что это люди пришлые, может быть, издалека, из самой Москвы, пришли поклониться ему, «великому заточнику», и, быть может, и окрестные селяне пришли к нему полечиться.
Никон в изгнании полюбил лекарское дело. Ему помогал в этом инок Мордарий. Отец Мордарий часто езжал по поручению Никона в Москву и привозил оттуда лекарственные запасы, камень безуй, самое любимое лекарственное снадобье Никона, траву чечуй, зверобойную, целибоху, росной ладан, деревянное масло, скипидар, нашатырь, купорос, квасцы и камфору.
При виде пришлых людей лицо Никона несколько оживилось, глаза просветлели, как будто и потеплели, весь вид его как бы подобрел, и даже брюзгливый голос смягчился. И неудивительно: забытый всеми старик, заброшенный в пустынное, мертвенное заточение, человек, переживший свою славу, своё величие, старик, у которого разбита была вера в единственного, в «собинного» всей его жизни друга, в «тишайшего» царя Алексея Михайловича, некогда всемогущий сосамодержец русской земли, а теперь арестант, которого иногда нарочно дразнили и пристава его, и стрельцы, и монахи, особенно кирилловские, старик, уже больной и нравственно надломленный, он рад был всякому проявлению к нему участия и доверия, оживал при мысли, что и он ещё не всеми забыт, что если не бояре, эти «псы, лающие только на нищих», то хоть простой народ его помнит и ценит…
Неудивительно отчасти и то, что он так измельчал в изгнании… Стальная воля Аввакума поддерживалась борьбой и настоящим подвигом мученичества, его рука тянулась за венцом мученика… А Никону и бороться было не с кем, кроме как с кирилловскою братьею из-за грибов, да рыбы, да хмеля…
А мученичество его было невидное… не венец у него впереди, а венок из крапивы, который постоянно жёг его беспокойную голову… Конечно, у Аввакума натура была цельнее; а Никона когда-то избаловало счастье, небывалое на земле, бешеное счастье, а потом всё рухнуло и выросла одна крапива, крапивный венок на голове, крапива и в сердце…
Прохожие между тем подошли к крыльцу. Впереди выступали, сняв шапки и вздев их на длинные дорожные посохи, двое загорелых бородатых мужиков, обличье, стрижка и все ухватки коих изобличали вольное казачество. Одеты они были в добрые зипуны. Запылённые сапоги глядели крепко, а по другой паре сапог висело за плечами, рядом с объёмистыми перемётными сумами. Кожаные пояса шириною почти в ладонь заставляли подозревать, что там, в этих «чересах», имеются денежки — золотые «лобанчики» и «левы» да «дукаты». Рукоятки ножей, торчавшие из-под зипунов, предупреждали и предостерегали всякого любопытного, что «череса» те сидят на своём месте здорово. У обоих из них было по серьге в ухе. Старшему, коренастому и чёрному, с проседью в бороде, казалось лет за пятьдесят; но, вглядываясь в его серые, полные жизни и энергии глаза под крутыми чёрными бровями, едва можно было дать ему двадцать лет. Младшему, красноватому и шибко весноватому с курчавой бородой и такой же головой со стрижкой в кружало, едва ли перевалило за сорок годов, а чёрные маленькие плутоватые глаза так и выговаривали сами собой: «Много было бито и пито, давлено и граблено, надо и душа спасти…»
За ними плёлся худой, сухой и корявый мужик на босых, потрескавшихся от цыпок ногах, который вёл за руку такого же босоногого, лет семи-восьми мальчика, с головой и лицом, обмотанными грязными тряпками. Мальчик, видимо, пухнул, не то с голодухи, не то от болести лихой.
За ними ещё старуха в рогатой кике и молодая, худенькая миловидная бабёнка, с головою, повязанною платком. Большие светло-голубые глаза глядели совсем с детскою робостью.