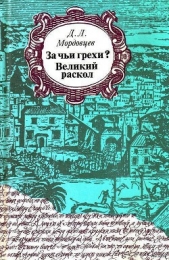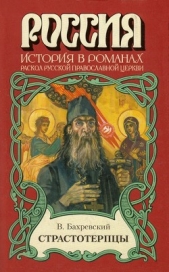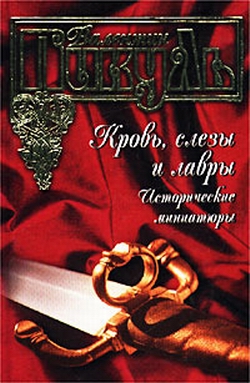Святой патриарх
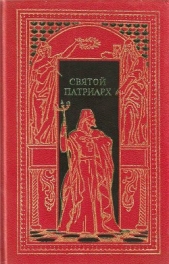
Святой патриарх читать книгу онлайн
О союзе аскетического раскола с неудержимой вольницей в один из сложнейших периодов отечественной истории рассказывает известный русский писатель Даниил Лукич Мордовцев в своих произведениях: романе «Великий раскол», повести «За чьи грехи?».Главными героями книг являются патриарх Никон, протопоп Аввакум, Степан Разин и, конечно же, тревожное и смутное время
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сарафан и рубаха упали на пол… Киликейка, отняв руки от лица, увидела себя совсем голою…
— Ах, ах! Матыньки!..
— Ничево, милая, иичево… Господь с тобою… всё это от бога… тело всё от бога… не грешное… в теле нету греха, оно божье, как и травка, крин сельный… Злоба токмо греховна…
Киликейка, не помня себя, желая только укрыться от глаз, бросилась на грудь старика и, обхватив его, шептала в беспамятстве:
— Ах, дедушко! Ох, стыдно! Ах, стыдобушка! Матыньки!
— Всё тельцо елеем надоть освятить, всё, миленькая!
— Ох, стыдно, стыдно, дедушка мой!
— Всё, всё тельцо… все уды… от беса…
— Ох, умру!
— Всё, всё; а то бес силён…
— Дедушко! Святой! Матыньки! О-о!
Киликейка начала «выкликать»: с нею сделался истерический припадок, а Никон стоял над нею с крестом и брызгал на неё кропилом, что ещё более усиливало припадки «порченой»[45].
Глава V. АРЕСТ МОРОЗОВОЙ
В Москве между тем нравственное и политическое раздвоение общества принимало угрожающие размеры. Взаимная борьба отколовшихся одна от другой половин московского общества становилась открытою, и фанатизм отколовшихся от правительства обострялся тем более, чем круче принимались меры против непокорных. Преследование, так сказать, воспитывало и закаляло политическую твёрдость и неподатливость преследуемых: коли люди бесстрашно и охотно сами идут добровольно умирать за что-то «своё» и считают эту смерть славною, мученическою, то, всеконечно, истина на стороне преследуемых, а не преследователей… Уверенность эта, как воздух, неведомыми путями проникала везде: в мужичью избу, в купеческий дом, в боярские палаты, в монастырь и во дворец — везде, словно из земли, вырастали эти отколовшиеся, эти «раскольники», как их тогда назвали, и царь, и царская дума, и все приказы, как паутиной, опутаны были тайною сетью отколовшихся, начиная от сенных девушек и кончая думными боярами и даже женскими членами царского семейства. Ни одно тайное распоряжение или даже намерение, ни одно слово, сказанное даже шёпотом во дворце, не оставалось тайным для отколовшихся: они всё это узнавали вовремя и принимали «свои» меры. Власть теряла под собою почву, теряла голову и делала ещё более крупные ошибки, именно делала то, чего не следовало, что подрубало под корень её популярность, отнимало у неё последних союзников; они становились в ряды преследуемых, ибо преследование заразительно; оно заражает здоровые места, как чесотка, только через прикосновение… Чем более усиливалось шпионство со стороны власти, чем усерднее и искуснее стали действовать эти «никонианские волки», тем более усиливалось сопротивление отколовшихся, тем бестрепетнее действовали они и тем быстрее формировались их тайные легионы…
Как только «волки», или, по-тогдашнему, «волци», посетили Морозову в день казни Стеньки Разина и пригрозили ей отнятием вотчин, если она не изъявит покорности, так тотчас же, мягкая по природе, она сама превратилась в волчицу и на угрозу отвечала угрозой — принять мученическую смерть. Мало того, она тотчас же объявила старице Мелании, что решилась постричься, навсегда порвать связи со всем, с чем соединила её знатность её рода и её высокое положение при дворе…
«Волци» начали пробираться во все знатные и незнатные, почему-либо подозрительные дома, а когда делать это днём стало стыдно, то «волци» пробирались в такие дома по ночам, обманом, «яко тати», чувствуя нечистоту своего дела и боясь уличного соблазна.
Когда Морозова объявила Мелании о своём непременном желании «восприять ангельский чин», хитрая, осторожная и умная старица, которой не могли вынюхать и выследить никакие «волци», несмотря на строжайшее повеление об этом Сверху и со стороны давящих властей, неуловимая, с рысьими глазками, старица всеми силами старалась отклонить её от этого рокового и опасного шага.
— Как ты, матушка, утаишь экое великое дело? — говорила она. — Пронюхают о сём «волци», и будет нам, овечкам, последняя горше первых. Одно то, что в своём дому тебе, миленькая, утаить сего нельзя будет: «волци» гораздо чуют, где кровию пахнет. А уведано будет это царём, многия, ох, многия скорби будут многим людем расспросов ради, чтоб только узнать, кто постриг. Ох, сколько овечек невинных на дыбу взволокут! А бежать тебе из дому, что Варваре Великомученице[46], так от того и горшие беды живут. А ежели и удастся это, не проведают «волци», так новая беда странничком прибредёт: придёт пора сынка Иванушку-боярчонка браком сочетать, пещись о свадебных чинах и уряжении; а сие инокиням не подобает… А как ты укроешься от попов и «волков»? Вить в церковь-ту тогда тебе ходить нельзя будет: ты не то, что мы, мыши подпольные, нас и «волци» не пымают, уж больно мы махоньки да черненьки…
Но воля Морозовой не пошатнулась при виде картины будущих ужасов: ей казалось, что с Лобного места, с высоты эшафота, к ней повернулась голова человека, сдавленного между дубовых досок, и большие, какие-то могучие глаза, смотря в её очи, говорили: «Видишь, сестрица, как умирают за правду: умри и ты так и приходи скорей ко мне…»
— Стёпа! Стёпа! Я хочу к тебе! — страстно прошептала молодая боярыня.
— Что с тобой, матушка! — изумлённо спросила Мелания. — Какой Стёпа?
Морозова опомнилась и перекрестилась… «Не шуми ты, мати, зелёная дубравушка», — звучало у неё в сердце, и этот голос, казалось, звал её к себе…
— А помнишь отца Аввакума? — спросила она.
— Помню, матушка, нашего света-учителя.
— Я по нём гряду…
Мелания должна была покориться, и молодую красавицу боярыньку постригли.
Когда во время тайного пострижения отец Досифей, исполняя обряд, бросил на пол ножницы и сказал: «Подаждь ми ножницы сия», — Морозова упала на колени и, подавая ножницы, страстно ломала руки.
— Урежь всю косу! Всю мою русу косыньку остриги, батюшко! — молила она. — Ноженьки Христовы я своею косою утирать хощу!
А сестра, молодая княгинюшка Авдотья Урусова, глядя на распущенную косу сестры, как до неё коснулись ножницы постригавшего попа, плакала навзрыд, не имея силы отогнать от себя знакомой песни, которую пели над её сестрою и над этою русою косою в день свадьбы:
Вечор мою русу косыньку девыньки-подруженьки заплетали…
Ох и моя косынька русая, кому тебе расплетать будет?…
— Вон кто расплёл, господи!
А самой Морозовой во время пострижения думалось не то. Ей представлялась её роскошная расплетённая коса в руках палача, там, на Красной площади, на Лобном месте, откуда смотрели на неё незабываемые ею глаза пред тем моментом, как голова вместе с этими глазами скатилась на помост… И смотрят на неё, на Федосью, всею Москвою и бояре, и князи, и сам царь со всею своею дворскою челядью: то её последний девичник, последнее расплетение русой косыньки. Только свет Аввакумушко не увидит, далеко он, далеко, там, куда и солнышко редко заглядывает…
«Волци» скоро, однако, проведали о пострижении Морозовой и доложили царю. Царь видел, что шатость проникла и к нему во двор, что скоро, может быть, на стороне Аввакума окажется вся Москва и он увидит себя на своём троне более одиноким нравственно, чем Аввакум в своём мрачном подземелье, а Аввакумов враг, Никон, в кельях Ферапонтова монастыря… Царь решился топором и виселицей задушить внутреннюю крамолу, показать свой «огнепальный гнев» на такой крупной в московском государстве личности, как боярыня Морозова, его же царская родственница…
— Подсеку сей кедр ливанский! — сказал он, вспыхнув. — А горькие осинки и сами усохнут.
Юная Софьюшка-царевна, слышавшая эти слова и страстно любившая свою «тётю Федосьюшку», которая, бывало, кармливала её коломенской двухсоюзной пастилой, тотчас же шепнула об этом своей сенной девушке, чтоб та предупредила «тётю Федосьюшку о гневе батюшковом»…