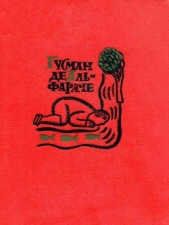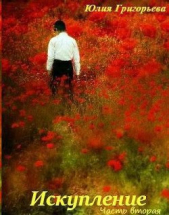Гусман де Альфараче. Часть вторая

Гусман де Альфараче. Часть вторая читать книгу онлайн
Для читателей XVII века Дон-Кихот и Гусман де Альфараче — два наиболее знаменитых героя испанской литературы периода расцвета
Роман написан от первого лица и считается одним из первых безусловных представителей жанра плутовского романа, после анонимного «Ласарильо с Тормеса». «Гусман де Альфaраче» напоминает мрачную и пессимистичную проповедь, Алеману не чужды морализаторство и сподвижничество к аскетичному образу жизни. Произведение пропитано настроением контрреформации. В первые же годы роман был переведен на несколько европейских языков и несколько раз переиздан, правда, этот успех не принес автору богатства
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Божественное провидение пеклось о нашем благе и потому, распределяя свои дары, не погрузило их на один борт, а оделило ими всех равномерно, дав каждому средство спасения. Оно создало могучих сеньоров и смиренных бедняков, даровав первым богатства мирские, а вторым — богатства духовные, чтобы богатые поделились с бедными и тем купили себе спасение: и те и другие стали бы равны, и все вместе обрели бы вечное блаженство.
Ведь золотым ключом можно отпереть врата рая; есть отмычки и для небесных замков. Это не значит, разумеется, что богатство угодно богу; но ему угодно пренебрежение богатством. Нищ не тот, кто беден да смешлив, а тот, кто богат да брюзглив. Только тот имеет всего вдосталь, кто довольствуется малым; лишь он может почитаться и богатым, и мудрым, и достойным.
Разумный берет за меру то, чем владеет, и с этой мерой подходит к тому, чего желает; и тогда он видит, что человеку не так уж много нужно и что взятый им шнур слишком длинен. Но когда шнур этот дают безумцу, он берет за меру то, чего алчет, и этим измеряет то, чем владеет, — но по божьему попущению мера его не имеет ни конца, ни предела, и охвати он своим шнуром хоть целое мироздание, все будет считать себя нищим.
Кто ничем не довольствуется, того ничем не ублаготворишь. Сколько ни хватай, еще больше останется такого, что тебе не принадлежит. Глаз алчного подобен пучине морской и бездне адовой, — он никогда не скажет: теперь довольно.
Ты богат и умен, если другие дивятся, как мало ты имеешь и как легко расстаешься с деньгами; ты глуп и нищ, если дивишься, как много денег у других и как мало у тебя.
Итак, я снова в Испании; я богат, очень богат — и все-таки еще более порочен, чем прежде. Бедность научила меня быть дерзким; богатство сделало беспечным. Если бы я умел властвовать над собой и довольствоваться тем, что имею, я бы ни в чем не испытывал недостатка. Но я был не таков и из-за денег рисковал жизнью и губил душу. Всего мне было мало. Однако что наживается без труда, то и проживается без толку. Я уподобился колесу нории: сколько воды оно наберет, столько же и выльет. Богатства своего я не ценил, денег не берег и разбрасывал их без счета. То были пропащие деньги, которые рассыпались прахом и гилью, ушли на вздор и беспутство. Кончилось это скверно, да и могло ли быть иначе? Чужое добро, как известно, впрок не идет. Богатство мое пропало, а с ним пропал и я сам. А как это случилось, ты узнаешь из дальнейшего.
Опасаясь погони, я поспешил покинуть Барселону и, объявив во всеуслышанье, что направляюсь в Севилью, пустился странствовать из селенья в селенье, по проселкам и перекресткам, путям и перепутьям. Ложь, уловки и выдумки понадобились мне для того, чтобы обмануть соглядатаев и помешать правосудию напасть на мои след. Ехал я на собственных мулах, с новым слугой, который ничего не знал о моих проделках, а путь я выбирал наудачу, сворачивая туда, где местность казалась красивее; сегодня ночевал здесь, завтра там, нигде надолго не задерживался и при всяком удобном случае менял платье: прибыв в какой-нибудь город, я первым делом переодевался во все новое, благо на это уходило каждый раз не более сотни эскудо.
Таким манером проехал я все прилегающие к Барселоне земли и очутился в Сарагосе. Я был рад, что прибыл в этот славный и знаменитый город. Молодость брала свое: денег у меня было вдоволь, сарагосские дамы славились красотой, и я решил провести там несколько дней. Впрочем, этого срока, да и вдвое большего, все равно бы не хватило, чтобы осмотреть город и насладиться его великолепием.
В Сарагосе так много прекрасных и внушительных зданий, повсюду заведен такой отличный порядок, в лавках столько разных товаров, а цены такие дешевые, что на меня словно опять повеяло Италией. Но там я столкнулся с обычаем, который поразил меня и даже ужаснул; я никак не мог примириться с местными нравами, не понимая, чем они вызваны. Ведь всем известно, что голова у женщин слабая, они возводят прихоть в закон, призрак принимают за действительность; как же можно понуждать честных вдов к тому, чтобы, забыв стыд и отбросив уважение к памяти покойного супруга, они кидались в омут или ходили, зажмурив глаза, по самому краю пропасти, куда их порой сталкивают даже нарочно?
Однажды, одевшись понарядней, пошел я прогуляться по широкой улице, носящей название Косо. Там мне приглянулась одна красавица вдова, женщина молодая и, судя по всему, богатая и знатная. Я беспрепятственно ею любовался, а она не считала нужным отойти от окна. Конечно, она заметила мои треволнения, но виду не подавала и притворялась, будто ничего не замечает, словно ни меня, ни ее тут не было. Я ходил вокруг нее усерднее, чем осел вокруг нории; и правда, не ослы ли мы, когда на нас находит любовная дурь? Однако она не сердилась и не уклонялась от моих взглядов, я же не решился сказать ей ни словечка, и она, как мне показалось, была раздосадована моей глупой молчаливостью и, вероятно, подумала: «Кто этот расфранченный болван, который целится в меня битых два часа, да так и не может выстрелить?»
Она ушла в комнаты. Я стал ждать, когда она появится снова, дав себе клятву, что на этот раз искуплю свою неловкость и выпущу-таки заготовленную стрелу. Но не тут-то было! Делать нечего, я отправился обратно на постоялый двор и, описав хозяину наружность дамы, спросил, не знает ли он, кто она такая. Трактирщик отвечал:
— Эта сеньора — вдова, и притом женщина четырежды прекрасная.
Я полюбопытствовал, что он хочет этим сказать, и он пояснил:
— В ней есть много красот, и всякая женщина могла бы почесть себя счастливою, если бы обладала хоть одной из них: она хороша лицом, как вы сами могли видеть; хороша именем, ибо принадлежит к одному из знатнейших семейств нашего города; хороша богатством, ибо, располагая значительным состоянием, является вдобавок наследницей своего супруга; сверх всего этого, она хороша своей доброй славой.
Видя, что чаша достоинств этой дамы так полна, что, того и гляди, перельется через кран, я сказал хозяину:
— Как же родственники позволяют молодой и привлекательной женщине подвергать себя соблазнам? Молодость, красота, богатство и свобода — опасные советчики. Не лучше ли снова выдать ее замуж, чтобы не затягивать вдовство, чреватое столькими бедами?
Он же ответил:
— Она не может выйти замуж, не понеся большой потери, ибо, вступив во второй брак, в тот же день лишится наследства, оставленного ей первым мужем, а это не пустяк. Оставаясь же вдовой, она сохранит свои права до конца жизни.
Тогда я воскликнул:
— О жестокий закон! О тяжкий приговор! Насколько лучше поступили бы вы с этой сеньорой и другими вдовами, если бы последовали обычаю, принятому в Италии: когда муж умирает, он оставляет жене великодушное завещание, по которому она получит все наследуемые от покойного деньги лишь после того, как вступит в новый брак; для того он и пишет завещание, чтобы она поторопилась снова выйти замуж и уберечь свою честь и доброе имя.
Я долго и красноречиво убеждал его в моей правоте, но он сказал:
— Сеньор кабальеро, неужели вы не слыхали поговорки: «Что край, то и обычай»? В Италии одно, у нас другое. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, а дом дому не указ.
Я на это возразил:
— Если у вас нет обычая получше, а сами вы держитесь правила, что всяк кулик на своем болоте велик, то я не могу этого одобрить. Недаром говорится: «Худой закон хуже разбоя». Хорош, праведен и свят лишь тот закон, который покоится на основах разума.
— Не мое дело разбирать законы, — отвечал трактирщик, — но, по моему понятию, смысл этого обычая не в том, чтобы удержать вдову от второго брака, а в том, чтобы она могла безбедно дожить вдовий век и не изменять долгу из нужды, дурно употребив то, что дано для блага. Виноваты женщины, а винят закон.
Доводы его меня не убедили. Но потом я задумался над тем, что есть женщина: ведь дай ей волю, и никакого сладу не будет, а попробуй держать в узде — станет и того хуже. Кто разберет, чего ей надобно? Много от женщин зла, но много и добра. Позволь ей бежать бегом — споткнется, пусти шагом — и вовсе упадет. Недаром слово «женщина» начинается с той же буквы, что жижа: все в ней жидко, хлипко, кроме характера. Ее можно сравнить, не в обиду будь сказано, с соломой: оставь солому в поле или сложи в овине, ее ни дождь, ни ветер не возьмет, а внеси ее в дом — так она и стены проломит. Из женщины, как из апельсина, не выжмешь больше соку, чем в ней есть, а будешь упорствовать — выдавишь одну лишь бесполезную горечь. Ни в чем они не знают меры, особенно в любви и в ненависти, а уж о просьбах и желаниях — и говорить не стоит. Сколько ни давай ей, все мало; что ни даст она — ей кажется много. Женщины вообще скупы.