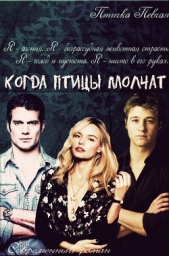Птицы поют на рассвете
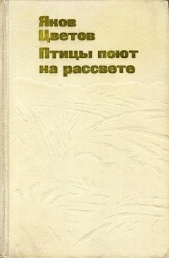
Птицы поют на рассвете читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кровь кипит, аж рвет жилы… — простонал Якубовский.
Кирилл смотрел на него и думал: пошли его в огонь — пойдет в огонь, на смерть пошли — пойдет на смерть и в голову не возьмет, что совершает подвиг.
— Скоро, скоро двинемся, — мягко сказал Ивашкевич. — В родные места. — Потом, будто вздохнув: — И моя там деревня, под Витебском. Может, зола теперь, а не деревня. А все ж…
Почему умолк Ивашкевич? Он чего-то недосказал, и Кирилл ожидающе взглядывал на него. Он знал, что воевать Ивашкевич начал на третий день войны, командовал истребительным отрядом. Отряд нес большие потери, отходил на восток. Путь отступления лежал в нескольких километрах от деревни Ивашкевича. Не повидав мать и сестер, он прошел мимо.
— Скоро, дружище, — повторил он. — Мы-то, сам знаешь, — развел руками, — хоть сейчас. А самолетам, видишь, не все под силу. — Помолчал. — А мне, выходит, опять своих не повидать, сбросимся и в сторону от моей деревни подадимся, — снова услышал Кирилл. Ни уныния, ни сожаления в тоне. — Разницы никакой. Твоя деревня — она и моя деревня.
И опять на какое-то мгновенье из сознания Кирилла выключилась казарма, он видел себя в дороге, и на него надвигался холодный рассвет. Он жил уже той жизнью, которая еще не наступила. Она стала для него более реальной, чем жизнь, с которой еще был соединен глубокими корнями, как дерево с землей. Он расшатывал дерево, и оно легко поддавалось его усилиям.
Дорога что-то подсказала Кириллу, но тут же выронил это из памяти. «А, вот что!» — вспомнил. Повернулся к Левенцову. Левенцов поднял на него глаза, они всегда почему-то выражали настороженность и ожидание. Это подчеркивал и шрамик над левым виском, будто прилипшая ниточка.
— Вот что, Костя. Завтра еще разок просмотрим весь пеший маршрут, — со спокойной озабоченностью сказал Кирилл. — Лишняя проходка не помешает. Приготовь карты.
— Есть приготовить карты.
Кирилл больше не повиновался усталости: дорога пропала так же внезапно, как и появилась, он окончательно вернулся в казарму и снова сидел за длинным столом вместе с бойцами его отряда. Голос Ивашкевича звучал у самого его плеча.
— И ничего, что нас горстка, — услышал Кирилл. — Сколько б нас ни было, хоть целый миллион, все равно каждому воевать так, вроде один он только и стоит против всей армии Гитлера, вроде только ему и доверено спасение Родины. Время теперь такое, когда не героев у нас и быть не может. А вот Петрушко, по лицу вижу, думает: и загнул комиссар! — добродушно усмехнулся Ивашкевич. Он не сводил глаз с Петрушко. — А ведь не загнул…
— Та нет, товарищ комиссар… — пробормотал тот не то смущенно, не то испуганно.
Кирилл тоже посмотрел на Петрушко, маленького, тщедушного, сидевшего наискосок, рядом с Якубовским, которому и до плеча не доходил. Его прозвали в казарме «Аршин-с-шапкой». Это был смирный человек, уже в летах; никто не шутил с ним, не заговаривал без надобности, даже Паша, — его как бы и не замечали. Маленькое лицо его, похожее на стянутый кулачок, ничем не запоминалось, разве лишь длинными морщинами, начинавшимися над самыми бровями. Неровно, как круги на пне старого дерева — один над другим, шли они по всему круглому лбу вверх, до волос — темно-серебристого мха. Глядя сейчас на это морщинистое пепельное лицо, на впалую Петрушкову грудь, Кирилл подумал: какой он заморенный и старый-старый — не от прожитых лет…
— Значит, собираемся? — дружелюбно подмигнул Кирилл Петрушко.
— Та можно сказать, что так, — тихий, глубокий вздох.
— Что ж так неопределенно?
— Та кто знает… — пожал он острыми, короткими плечами.
— Не годится, братец. Ты скажи. Еще не совсем поздно. Можем оставить тебя.
— Та нет. Что ж оставаться. Полечу, — произнес он покорно, как человек, подчинившийся неизбежному. Неподвижное лицо ничего не выражало.
Что это, нерешительность? Малодушие, может быть? Кирилл старался припомнить, каким был Петрушко все эти пять недель. «Собственно, таким же. Характер, — успокоился Кирилл. — Не может быть, чтоб ошибся в нем. Не может быть. — Он сопротивлялся неожиданно возникшему сомнению. Этот совсем неприметный человек очень нужен будет, когда отряд начнет действовать в селениях, занятых врагом. — Да что до времени расстраиваться. Говорят же: чтоб узнать силу якоря, нужна буря в океане. Океан уже не за горами, а с ним и буря».
И все-таки в нем шевельнулось сожаление, что взял этого хиляка в отряд.
Кирилл ушел в свой угол, присел на койку и вдруг тоскливо почувствовал, что остался один. Пока все были вместе, пока голоса объединяли его со всеми, чувство это не подступало к нему, а сейчас чего-то не хватало, и он не мог понять чего. Это не было ощущением одиночества, которое охватывает в минуты, когда порывается связь со всем привычным и надежным, когда мир отодвигается и образовавшуюся пустоту заполняет уныние и растерянность. Нет, нет. Одиночество делает человека слабее самого себя, такое Кирилл не мог впустить в свое сердце. «Чепуха, — выпутывался он из странного состояния. — Чепуха!»
Он сидел, обхватив ладонями крутые колени, будто два булыжника держал в руках. В голове мелькали случайные обрывки минувшего дня. Был тут и сержант-артиллерист с темными очками на глазах, бережно вела его под руку молодая женщина, и тот, чуть-чуть приотстав, ступал негнущимися ногами, послушный каждому ее движению, как беззвучно поданной команде; был и трамвай «Аннушка», в который он вскочил на ходу, — весь вагон в осколочных вмятинах, уже успевших зачерстветь, но пассажиры, ехавшие в нем, казались чудом спасшимися героями; и девушка из армейской столовой была… Все это, конечно, ничего не объясняло. И что в конце концов было объяснять! «Нервы натянуты, вот и все».
Но девушка с утомленным лицом почему-то не выходила из головы. Вот наклонилась она над столиком, поставила тарелку с сосиской и капустой, положила аккуратно отрезанный ноздреватый ломтик хлеба… Он проглотил налившуюся во рту теплую слюну. И тут же в мозг ударила острая догадка: девушка отдала ему то, что сама не съела и берегла для больной матери. Он вспомнил, каким грустным было ее лицо, как понуро шла назад к буфетной стойке, и он болезненно поморщился. Нехорошо было на душе, и ничто в нем уже не препятствовало тому, чтобы снова возникли ослепший сержант-артиллерист с женщиной-поводырем, их тоже, оказалось, настойчиво хранила память, и трамвай, изуродованный осколками бомбы, звеневший в тесноте напрягшегося города, и еще что-то схожее с этим.
Кирилл выбирался из дурного настроения. Он находился уже по ту сторону тревожной линии окопов и видел то, что сможет увидеть только завтра, даже послезавтра, или еще позже, когда отряд будет далеко от казармы.
Но казарма снова захлопнула его. Слева — стена, ее нижняя, меньшая половина грязно-зеленая, с облупившимися пятаками, и серая, как дождливые сумерки, верхняя половина подпирала угрюмый в полутьме потолок; справа — проход между длинными рядами коек, а дальше — стол, и над ним мглистый свет электрической лампочки, накрытой плоским металлическим кружком и оттого похожей на маленький Сатурн. Возле коек чем-то занимались Паша, Толя Дуник, Михась. Положив на колени планшетку, на которой белел листок, Левенцов писал. Глаза Кирилла отыскали Петрушко. Тот примостился в углу, вынул из кармана моточек суровых ниток, отогнул щиток шапки-ушанки, достал иголку и, совсем по-домашнему, положив ногу на ногу, принялся пришивать тесемки на выстиранном белье. Кончил, неторопливо перекусил зубами нитку, хозяйственно воткнул иголку в щиток шапки и положил моточек в карман. Кирилл снова стал раздумывать о Петрушко. Он пробовал представить себе, каким Петрушко будет там, но ничего не получалось. Куда бы его ни девала мысль Кирилла, всюду видел он Петрушко вот таким: маленький, на табурете, перекусывает зубами нитку…
— Лопес, — негромко позвал Кирилл. — Хусто!
Подошел худой и смуглый боец, еще более смуглый, чем Паша: короткие прямые волосы цвета густой ночи, четко прочерченные черные брови, они смыкались у переносицы и как бы поддерживали навсегда затененный лоб.