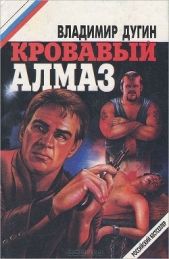Пепел и алмаз

Пепел и алмаз читать книгу онлайн
На страницах романа Ежи Анджеевского беспрерывно грохочет радио. В начале звучит сообщение от четвертого мая, о том, что в штабе маршала Монтгомери подписан акт о капитуляции, "согласно которому …немецкие воинские соединения в северо-западной Германии, Голландии, Дании… включая военные корабли, находящиеся в этом районе, прекращают огонь и безоговорочно капитулируют". Следующее сообщение от восьмого мая - о безоговорочной капитуляции Германии. Действие романа происходит между этими двумя сообщениями. В маленьком польском городке Островце за эти три дня убивают пятерых человек.
Киношедевр Анджея Вайды 1958 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Песенка кончилась, оркестр умолк, но чары рассеялись не сразу. В зале долго еще было тихо, никто не решался пошевельнуться. Потом послышались аплодисменты — сначала робкие, редкие, а потом перешедшие в бурную овацию. Зажегся свет.
VII
Он очнулся от тяжелого сна, весь в поту, с сердцем, колотившимся где-то в горле, и не сразу сообразил, где он. Со всех сторон его обступала темнота. Было тихо, но в нем метался и рвался наружу сдавленный, хриплый крик. Он слышал его так отчетливо, будто совсем рядом во тьме кричал человек. Сев на кровати, он сжал руками голову, которая раскалывалась от диких воплей. Но крик не утихал. Он раздавался под черепной коробкой, и казалось, окружающая темнота кричала в ответ. Он еще сильней, до боли, стиснул голову. Виски были в поту, ладони тоже холодные и липкие. Его стала бить внутренняя дрожь. Инстинктивно он пошарил вокруг, ища одеяло. Сначала нащупал жесткую чистую простыню, потом — атлас одеяла. И только когда натянул его на плечи, до сознания дошло, что он дома, в спальне, лежит рядом с женой на оставшейся после немцев кровати.
Алиция спала, дыша ровно и тихо. Он наклонился над ней, прислушиваясь к ее спокойному дыханию. Вдруг, словно почувствовав его рядом, жена вздохнула и пошевельнулась. Он отпрянул, но она продолжала спать.
Его по-прежнему трясло. Он натянул одеяло повыше и плотней закутался в него. На ночном столике тикал будильник. Только сейчас он услышал тиканье и бесконечно удивился. Разве бывает на свете больший покой? Ночь. Уснувший дом. Рядом спит жена. Тикают часы. А время отступает куда-то в далекое, полузабытое прошлое. Ему и прежде нередко случалось просыпаться среди ночи. Он любил эти одинокие минуты, ничуть не похожие, однако, на одиночество, и не торопился опять заснуть. Можно было без помех обозреть свою безупречную, гармоничную жизнь, которая текла тихо и мирно. Ночная тишина, спящий дом, ровное дыхание Алиции располагали к тому, чтобы заглянуть в прошлое. Минувшие годы терялись вдали, и он не находил там ни одного мгновения, ни одного события, за которое стоило бы краснеть. Ему ничего не нужно было вычеркивать из своего прошлого, нечего стыдиться и нечего скрывать.
Но эти смутные воспоминания не принесли облегчения. Спина и плечи согрелись под толстым ватным одеялом, а внутренняя дрожь не утихала. Он устал, но лечь боялся и только сомкнул отяжелевшие веки. И сразу почувствовал облегчение, как в бездонную пропасть, провалившись во тьму. Дрожь внезапно унялась. Ни о чем не думая, он уткнулся головой в колени. Покой. Тишина. Вдруг он вздрогнул. Кто-то крикнул в темноте. Он выпрямился и весь обратился в слух. Где кричали? Около дома? На улице? Сначала он подумал, что ему послышалось. Но в следующее мгновение понял: это у него внутри затаился и опять зазвенел этот крик. Он был всюду. В груди. В горле. В висках. Крик избиваемого человека. Съежившись, он замер, словно надеясь хоть так заглушить этот голос. «Сейчас пройдет», — подумалось ему, и кулаки так крепко сжались, что ногти впились в ладони. Но крик усиливался, рос, хватал за плечи. Он чувствовал: еще секунда — и окружающий мрак, ночь, в чьих невидимых тисках он бился, как на дне огромной ямы, отзовутся диким воем. Не выдержав, он вскочил и сам закричал.
Алиция проснулась. Она села и ощупью, еще спросонья, стала искать выключатель. Наконец нашла и зажгла свет.
Антоний стоял на коленях тут же, на постели. Большой, грузный, угловатый. Лицо бледное, перекошенное от страха. В полосатой пижаме, с бритой, обезображенной головой, он был похож на преступника, выпущенного из тюрьмы. Когда он поднял на нее остекленевшие, неестественно расширенные глаза, она инстинктивно отшатнулась.
— Погаси! — невнятно пробормотал он.
Она повиновалась. Комната снова погрузилась во мрак. Антоний не шевелился. Прижавшись к своей подушке, она видела в темноте очертания его большого, неподвижного, как колода, тела.
— Антоний!
Молчание.
— Что с тобой?
— Ничего.
— Почему ты не ложишься? — с трудом сдерживая дрожь в голосе, спросила она.
Он лег. Снова наступила тишина.
— Антоний…
— Что?
— Тебе что-нибудь приснилось?
— Наверно. Не помню.
— Ты вскрикнул.
— Разве?
— Я проснулась от твоего крика.
— Очень жаль.
Он говорил спокойно, отчетливо выговаривая слова. Страх оставил его. Все прошло. На душе опять стало спокойно. Вытянувшись, лежал он на спине с закрытыми глазами и старался дышать ритмично, как во сне, хотя знал, что заснет не скоро. Его все сильней тяготило присутствие жены. Чего ей надо? Почему вместо того, чтобы спать, она сидит, насторожившись, в своем углу и чего-то ждет? На что она рассчитывает? Он не нуждается в ее заботах. Обойдется без ее любви и нежностей. Ему ничего от нее не надо. Только очень близкие когда-то люди могут вдруг стать такими бесконечно чужими, как сейчас вот эта женщина, которая делила с ним супружеское ложе. Что она знает о нем? Как смешны ее жалость и беспокойство! Все ее благие порывы и желания пропадали всуе, ненужные и напрасные. И вдруг он почувствовал, что именно за доброту, верность, нежность и преданность может ее возненавидеть. Когда он понял это, ему стало легче. Он даже чуть не захлебнулся от ненависти и глубоко вздохнул.
Алиция пошевелилась.
— Не можешь заснуть?
— Не могу.
Она замолчала. Но Косецкий знал: Алиция не ограничится этим вопросом, и терпеливо ждал. Неуловимо быстрые, юркие мысли мелькали у него в голове. Он еще не знал, как и когда ему удастся побольнее ранить жену, но сознание, что он это непременно сделает, наполняло его радостью. Ему не пришлось долго ждать.
— Антоний!
— Что?
— Я хочу тебя о чем-то спросить…
— Пожалуйста.
— Может, я мешаю тебе спать?
— Нет. Я слушаю тебя.
Она заколебалась. Днем у нее не хватило бы духа начать этот разговор. А сейчас темнота придавала ей смелости.
— Я все время думаю об этом.
— О чем?
— Почему ты молчишь и скрываешь все, Антоний? Ведь я знаю…
— Что ты подразумеваешь под этим «все»?
— То, что ты пережил…
— А-а!
— Я ведь знаю, как тяжело тебе пришлось, какие ужасы ты перенес. Но если бы ты только захотел…
— Что бы тогда было?
— Раньше, когда у тебя бывали неприятности или огорчения, ты всегда делился со мной. Вспомни.
— Да?
— Не помнишь?
— Возможно.
У нее слегка задрожал голос.
— Неужели я для тебя теперь совсем чужая? И ничем не могу тебе помочь?
— Какую помощь ты имеешь в виду?
Она снова замолчала. «Сейчас начнет плакать», — подумал он. Но она не заплакала.
— Ведь мы с тобой были когда-то счастливы, Антоний, — сказала она тихо.
Ах, вот оно что! «Были, когда-то…» На все лады изменяет прошедшее время. Жизнь ей, как видно, до сих пор кажется чем-то постоянным, текущим по одному и тому же прямому руслу.
— Разве нет?
— Что?
— Нам ведь было с тобой хорошо, Антоний, целых двадцать два года.
Он молчал. Двадцать два года? С таким же успехом она могла бы сказать: десять лет, тридцать, даже сорок. Смысл был бы тот же. Потому что его вообще не было. Она не понимала, что жизнь может расползтись, как истлевшие лохмотья. Ненависть вдруг исчезла, бесследно испарилась. Даже в ненависти не было никакого смысла. В его распоряжении всего два дня. А потом — конец. Во вторник он пойдет к Щуке и с этой минуты перестанет быть Косецким. Все сделанное за долгие годы им, носившим эту фамилию, окажется ничтожным и легким, как пух, по сравнению с тем тяжким грузом, который положил на другую чашу весов человек, называвшийся Рыбицким. Он представил зал суда и себя на скамье подсудимых, когда будут оглашать длинный перечень совершенных им преступлений. Потом ему предоставят последнее слово. Просторный, высокий зал, в котором он ежедневно многие годы судил людей. Что он сможет сказать в свое оправдание? Все и ничего. Какими мертвыми в сравнении с жизнью показались ему параграфы законов! В жизни были страх и подлость. Обыкновенный человеческий страх. Ужас человека, который медленно погружается в зловонную клоаку. Жизнь учила цепляться за существование. Учила ненавидеть и презирать. Жизнь была по ту сторону закона. Сухие параграфы кодексов парили где-то в пустом пространстве, высоко над этой бездной. Осудить человека — что может быть проще? Но во имя чего? Во имя справедливости? Среди обрывков мыслей, беспорядочно теснившихся в голове, всплыла торжественная формула: «Высокий суд…» Толпа людей. Мантии судей. Крест. Тишина. Он так отчетливо слышал самого себя, будто обступившая его темнота резонировала, как огромный судебный зал. «…Бывают такие провинности и порочащие честь человека поступки, — громко и спокойно звучал его голос, — которые справедливость требует предоставить суду его собственной совести…»