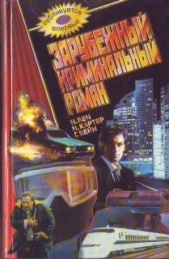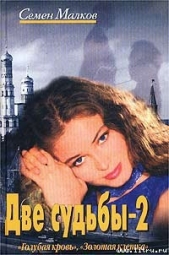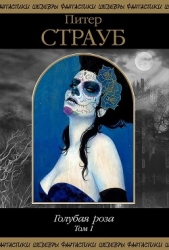Голубая акула

Голубая акула читать книгу онлайн
Литературный критик и переводчик, Ирина Васюченко получила известность и как яркий, самобытный прозаик, автор повестей «Лягушка в молоке», «Автопортрет со зверем», «Искусство однобокого палача» и романов «Отсутственное место» и «Деточка» (последний вышел в «Тексте» в 2008 г.).Действие романа «Голубая акула» происходит в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Его герой, в прошлом следователь, а после революции — скромный служащий, перебирающий никому не нужные бумаги, коротает одинокие вечера за писанием мемуаров, восстанавливая в памяти события своей молодости — таинственную историю одного расследования, на которое его подвигнула страстная любовь. Был ли Миллер, его тогдашний противник, знаток и страстный любитель рыб, только преступником, изувером, охотившимся на маленьких детей, или судьба столкнула молодого следователя с существом сверхъестественной, дьявольской природы? Как бы то ни было, та давнишняя драма представляется постаревшему, тяжело больному Алтуфьеву почти нереальной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из знакомой облупившейся рамы на меня, дружески скаля редкие гниловатые зубы, глядел Серафим Балясников. Вся его развинченная фигура скверно егозила и кривлялась, голубые глаза, выцветшие от злобы и водки, ободряюще подмигивали.
— Баба должна свое место знать! — изрек Серафим и вытянул губы трубочкой, словно собирался облобызать меня.
Я проснулся от невыносимого удушающего страха. Вопреки обычному он не хотел проходить даже тогда, когда я опомнился и сообразил, что это был всего лишь кошмарный сон. Положим, тому, на кого Серафим Балясников лезет из зеркальной рамы хотя бы и во сне, есть от чего переполошиться.
Когда поздний зимний рассвет наконец заполз в каморку, я встал, оделся с забытой тщательностью и вышел на улицу. Я шел к Добровольским. Во всей Москве не было другого дома, куда я бы рискнул показаться таким.
— Боже мой, что с вами? Вы больны? — вскричала попадья, едва увидав меня.
Я машинально глянул в небольшое зеркальце. Ясное, до блеска протертое, оно висело в светлой комнате, и то, что я в нем узрел, никак не походило на демонического красавца, отражением которого соблазняло меня предательское мутное стекло в полумраке моей конуры. На меня взирал неприглядный тип с помятой бледной физиономией, воспаленными веками и общим выражением той нервической амбициозности, какая свойственна проходимцам, претендующим на благородное происхождение. Короче, это был если еще не Балясников, то некто не столь уж от него далекий.
В отчаянии, которого не мог более скрывать ни от себя, ни от других, я пробормотал:
— Действительно, я… немного нездоров.
Было угощение, добрые слова и улыбки. Подросшая Наташа с милым упорством карабкалась на меня, словно на дерево…
— Пройдемтесь? — предложил отец Иоанн. — День прекрасный.
Мы медленным шагом бродили по снежным улицам. От свежего воздуха слипались глаза и странно звенело в ушах.
— Скоро Рождество, — заметил Добровольский, нарушая молчание.
— Плохи мои дела, — откликнулся я невпопад и почти резко. — Мне, знаете, совершенно не с кем поговорить. Многие месяцы, кроме дворника да лавочников, я не перемолвился словом ни с одной живой душой…
И я все ему рассказал. То есть, разумеется, не все, а лишь то, что сумел. Мне казалось, этот простодушный молодой человек, живущий в благополучии и мире с самим собой, никогда не сможет меня понять. Эта мысль приносила мне горькое облегчение, словно я, подобно античному персонажу, доверял свою тайну дуплу дерева или колодцу. Закончив, я спросил с некоторой долей вызова:
— Что же делать теперь? Скажите, если знаете!
Я был уверен, что он предложит мне искать утешения в смирении и молитве. Но отец Иоанн меня перехитрил. Он улыбнулся с лукавым упреком:
— Зачем вы надо мной смеетесь?
— Смеюсь? Вы думаете, мне до смеха?
— Вам не до смеха. Но надо мной вы все-таки смеетесь. Вы же сами прекрасно знаете, что делать. Вы знаете это гораздо лучше, чем я. А спрашиваете…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Цирк приехал
Нынче мне вздумалось полистать сию рукопись, и я сам удивился, как она разрослась. Приступая к ней, я думал о скором конце, но теперь мне кажется, будто с тех пор не месяцы прошли, а целая жизнь. Та весна, как она уже далека! А я все еще слышу, как Ольга Адольфовна напевает романс про прекрасные очи… Теперь у нее другой. Уже несколько дней она мурлычет «Глядя на луч пурпурного заката», и мне снова чудится чья-то насмешка.
Но близок час, близка моя могила,
Когда умру, как тихий шум травы
Мой голос прозвучит и скажет вам уныло:
«Он вами жил! Его забыли вы!»
Смешное мальчишество — все примерять на себя, всюду выискивать намеки и каверзы шутницы-судьбы, хотя ей давно наскучило с тобой шутить. Зря я воображаю себя старцем, или, вернее, это еще одна ребяческая причуда. Вероятно, я действительно принадлежу к той малопочтенной в глазах следователя Спирина человеческой категории, представители коей, сколько ни проживут, все умирают недорослями. Подагрическими, морщинистыми подростками с незрелым умом и выспренними мечтаниями.
Да что мне Спирин? Ну его совсем, достопочтенного Афанасия Ефремовича, хоть и помог он мне когда-то. Такие люди будто нарочно созданы, чтобы внушать ближним чувство вины. Но мои-то прегрешения все в прошлом.
Любопытно: когда человек чистосердечно, без кривляния и подспудных расчетов отстраняется от суеты, жизнь сама начинает тянуться к нему. Будто хочет спросить, зачем он так. Словно жалеет или интересуется вызнать причину его отчуждения. Право, никогда, кроме разве что первых, как раз весьма суетных недель в Блинове, я не внушал приязни столь многим разным людям. Вот и Надежда Александровна специально приехала еще раз, привезла какую-то целебную настойку на травах: «Пейте это, ди-тя!» И даже Тимонин нежданно-негаданно пригласил заглянуть к нему.
Его флигель куда аккуратнее, прибранней моей комнатенки: по-видимому, Тимонин печется об этом сам. А над столом в самодельной рамочке маленький портрет, убранный под стекло. Совсем юная девушка в простом наряде из белого шелка наподобие туники. И держит скрипку. Черты лица, повернутого в профиль, так чисты, безупречно совершенны, что перестаешь понимать, есть ли, даже нужна ли душа там, где сама телесная оболочка так волшебно одухотворена.
— Кто это?
— Цецилия Ганзен. — Он ни разу не заикнулся, произнося это имя. Бесконечное благоговение звучало в его голосе.
— Вы с ней знакомы?
— В-вырезал из «Н-нивы». Ей с-семнадцать лет… б-было т-тогда…
— Когда?
— П-п-перед в-войной.
Вот, извольте, еще один затерянный в мире престарелый мальчишка со своей Снежной королевой. Может быть, по-своему он даже счастлив: эта уже не станет хихикать с юнкером.
— Что вы-то никогда ко мне не зайдете? — спросил я, поддаваясь теплому братскому чувству.
В ответ Тимонин впал в долгую мучительную речь, из которой я с изумлением понял, что у него бессонница и уже несколько раз он совсем было собирался меня навестить в ночную пору, даже к окну подходил. Но постеснялся: лампа горит, я, должно быть, работаю. И верно, я припомнил, что раз или два мне послышалось, как в поздний час будто палая листва шелестела под чьими-то шагами.
— Что вы, право? Если горит лампа, отчего же стесняться? Еще понимаю, если б она не горела, — это бы значило, что я сплю.
— Д-действительно…
Не подружиться ли с ним, в самом деле? Записки мои подходят к концу. Впереди долгие зимние вечера. Наверное, не стоило тратить лето на мемуар, чернильным делам больше пристали бы осень и зима. Да я все боялся не успеть. Теперь же, когда почти все сказано, чувствую себя опустошенным. И тянет к тихому обществу собеседника, мечтающего о скрипачке в белом, произносящего короткую фразу за пять минут и не изменяющего своей робкой учтивости даже тогда, когда в доме пожар: «М-мне бы м-мешок… П-поря-а-адочный…» Право, мы с господином Тимониным просто созданы друг для друга.
В дверь торопливо застучали.
— Да! — крикнул Я, избавляя Тимонина от надобности выговаривать: «Войдите!»
Вбежала Муся. За ней чинно следовала Светлана. Может быть, потому, что только что любовался Цецилией Ганзен, я впервые заметил, что эта хрупкая белокожая девочка была бы хороша, если бы ее лицо с длинными лучистыми глазами, тонким рисунком бровей и изящно вылепленным носиком не заканчивалось ужасным скошенным подбородком. Природа насмеялась над Светланой, словно капризный скульптор, что начал лепить Психею, да соскучился и оставил свой труд недоделанным. Нижняя губа девочки так коротка, что не закрывает зубов — они выглядывают наружу, как у зверька-грызуна.
От сих глубокомысленных наблюдений, которые больше подошли бы графу Муравьеву, меня отвлекла Муся.
— В Харьков приехал странствующий цирк! — с жаром объявила она. — Цирк-зверинец, и у него потрясающая афиша. Светлана видела.
— Берберийские львы-великаны! — торжественно провозгласила будущая циркачка. — И лев-лилипут! И еще эти… как их… монстры тропических вод! А наездниц нет, — прибавила она печально. — Наверное, нет, а то бы в афише про них тоже написали. Как вы думаете?