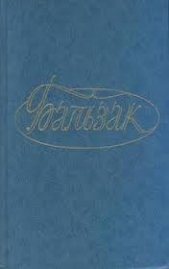Дороги Фландрии

Дороги Фландрии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но Жорж зря прождал несколько минут, она больше не появлялась в окне, только неподвижный павлин застыл на серовато-белой занавеске, да по-прежнему из дома доносился, хотя дверь теперь была закрыта, жалобный голос старухи и по-прежнему казалось сами лезут в уши эти монотонные, ритмичные причитания, напоминавшие напыщенную, нескончаемую декламацию, стенания античных плакальщиц, точно все это (эти крики, этот накал страстей, необъяснимая безудержная вспышка ярости) происходило не в эпоху ружей, резиновых сапог, каучука и готового платья но в далекие-далекие времена, или во все времена, или вообще вне времени, а дождь все моросил не переставая может быть с незапамятных времен, и все капало и капало с ореховых и фруктовых деревьев: и заметить его можно было только на фоне какого-нибудь темного предмета, или в том месте куда падала тень, у края крыши, быстрые капли расчерчивали неуловимыми штрихами точно тирешками темный фон перекрещивая его серыми линиями порой особенно крупная капля пригибала былинку которая тотчас же вновь распрямлялась резким толчком и казалось по недвижному лугу то тут то там пробегает мелкая дрожь; смутно вырисовывались дома и сараи образуя три стороны неправильного прямоугольника вокруг водопойного желоба и какого-то каменного корыта где в ледяной воде Жорж пытался простирнуть свое белье окоченевшими ледяными пальцами натирая мылом выщербленный борт колоды к которому прилипала серая как небосвод мокрая ткань под ней образовывались воздушные мешки надувались пузырями линиями рельефами более светлого серого топа, проводя по ним мылом оп давил их и они собирались в параллельные извилистые складочки когда он полоскал по воде растекалось голубоватое облако, голубоватые пузырьки теснились сливались медленно уплывали прокладывая себе изгибистую дорогу сквозь черную истоптанную лошадьми грязь, скользя по ней вода струилась от одного отпечатка копыта к другому, и в конце концов белье оказывалось почти таким же серым как и до стирки, и Блюм сказал: «Почему ты не попросил ее постирать тебе белье? Боялся что муж пальнет из ружья?» — «Да он ей вовсе не муж», сказал Вак и замолчал словно жалея что заговорил, и снова склонил свое лицо неприязненного и молчаливого эльзасского крестьянина над ведром где он начищал стремена и удила мокрым песком, а Жорж: «А ты-то откуда знаешь?», а Вак продолжая надраивать стальную уздечку ничего ие ответил, Жорж повторил: «А ты-то откуда знаешь? Что тебе об этом известно?», Вак по-прежнему не поднимал головы, склонив — скрыв — лицо над ведром, но в конце концов недовольно буркнул, раздраженным тоном: «Знаю и все тут!», а Мартэн насмешливо сказал: «Да он им сейчас помогал картошку копать. Работник их и сказал ему: это просто его брат», а Блюм: «Ну а муж-то где? Загулял верно в городе?», а Вак повернувшись к нему всем корпусом, сказал: «Загулял как и ты, сука поганая: с каской на башке!», а Блюм: «Ты позабыл назвать меня грязным жидом. Я не сука поганая: я жид. Тебе все-таки следует это помнить», а Жорж: «Хватит!», а Блюм: «Оставь. Положил я на это знаешь», а Жорж: «Так значит, вот как, ты помог им копать картошку и работник все тебе рассказал?», голоса их вырывались, вернее прорывались сквозь серый моросящий дождик, нудный, терпеливый (подобный все множащемуся и таинственному хрусту невидимых насекомых незаметно пожирающих дома, деревья, всю землю без остатка) позвякивали по временам звонко и чисто стремена и уздечки: только голоса солдат усталые и тоже монотонные взмывали вверх один за другим чередуясь сталкиваясь но так как обычно говорят солдаты, то есть так же как они спят или едят так же терпеливо безучастно скучающе словно бы они вынуждены были изобретать искусственные причины для спора или просто повод для разговора, в сарае все так же пахло мокрым сукном сеном, и всякий раз как кто-нибудь открывал рот вырывалось облачко серого пара которое почти тотчас же таяло. с чего это ему так не терпелось пострелять из ружья может оттого что идет война, и все как же все ио он ведь колченогий его и не забрали дьявольское везение чего бы я не дал чтобы тоже быть колченогим и не идти уж он-то наверняка так пе думает похоже ружье ему по сердцу и ему охота пустить его в ход может оп невесть что отдал бы чтобы а другой какой другой иу тот с зонтиком ты хочешь сказать помощник мэра только пе вздумай меня уверять что в этой дыре где всего-то четыре дома имеется мэр и помощник мэра может еще и епископ в придачу вот церкви-то я не видел так значит она не может ходить к исповеди но может быть ни кюре ни аптекаря ни водопровода Тут уж все па виду никуда не денешься Верно поэтому он и сторожит ее с винтовкой на изготовку да чего вы тут болтаете сволочь всякие мерзости и гнусности гляди-ка Вак очнулся А я-то думал ты оглох Думал не желаешь разговаривать с грязным жидом вроде меня хватит положил я на это ясно а если положил он может называть меня как ему черт побери прекрати наконец Да что же такое в конце концов с этой клячей
Они взглянули на лошадь по-прежнему лежавшую на боку в глубине конюшни: сверху на нее была накинута попона из-под которой торчали только вытянутые прямые ноги, неправдоподобно длинная шея с бессильно свисавшей головой которую она уже не могла поднять, костлявой, слишком большой башкой вроде бы в каких-то уступах, с мокрой шерстью, длинные желтые зубы виднелись из-под вздернутой губы. Только глаз казалось жил еще, огромный, печальный, и в нем, на выпуклой блестящей ого поверхности, они могли видеть самих себя, свои изогнутые скобкой силуэты выделявшиеся на светлом фоне двери подобно голубоватому туману, пелене, бельму которое казалось уже затягивало, застилало влагой этот ласковый взгляд циклопа, влажный и обвиняющий, приходил ветеринар пускал ей кровь уж я-то знаю что с ней Вак всегда все знает он ох кончай это все Мартэн молотил ее каской по башке всю дорогу колошматил всю ночь я сам видел готов биться об заклад он что-то ей повредил раз нет другого способа заставить ее идти побыстрее пе плестись рысцой пришпорил бы ее хорошенько она бы да разве шпорами заставишь такую лошадь не плестись рысцой от этого она еще больше очумеет все равно разве позволено так обращаться с животным а с человеком так обращаться позволено Шестьдесят километров не останавливаясь скакать точно мячик да так и свихнуться недолго все равно можно было еще что-то придумать а не дубасить ее каской сказал Иглезиа а я не жокей я слесарь раз уж ты такой ловкий и так любишь кляч чего ж ты с ним не поменялся вот и ехал бы на ней он бы тебе ее уступил за милую душу знаешь он какой с нее спрос с бедной животины если она плетется рысью никакого но и с Мартэна тоже ведь не больно-то велико удовольствие вот ты бы и предложил ему поменяться а я вовсе не собираюсь менять лошадь езжу на той которую мне дали а это его лошадь ну тогда заткнись скажите пожалуйста лучше заткнись я не доносчик какой-нибудь тем лучше для тебя не воображай только что ты меня случаем запугал нет Может я не такой образованный как ты но тебе меня не запугать знаешь стоит мне пальцем ткнуть и ты полетишь вверх тормашками что ж попробуй тоже мне да ты и так па йогах еле держишься того и гляди скапутишься ты даже не способен.
Они продолжали спорить, но в их голосах не чувствовалось раздражения, скорее какая-то жалоба, па них лежала печать безразличия свойственного крестьянам и солдатам, такого же безликого, как их негнущиеся мундиры, сохранившие еще (а это было в самом начале осени, той что пришла за последним мирным летом, ослепительным и порочным летом которое представлялось им теперь уже таким далеким словно бы они смотрели старую хроникальную ленту плохо отпечатанную и передержанную где, в едком свете, судорожно жестикулировали окровавленные призраки в сапогах словно бы приводил их в движение не их мозг грубых или глупых солдафонов но некий неумолимый механизм который заставлял их двигаться, спорить, угрожать и похваляться, лихорадочно подхваченных ослепляющим кипением знамен, кишением лиц и который казалось одновременно порождал и рассовывал их кого куда, словно бы толпа обладала неким даром, безошибочным инстинктом позволявшим ей обнаруживать в недрах своих и выталкивать вперед благодаря некоей своеобразной самоселекции — или отторжению, или скорее дефекации — неизменного болвана который будет размахивать плакатом и за которым все они последуют в состоянии того экстаза и завороженности в какое погружает их, подобно детям, вид собственных экскрементов), так вот, сохранявшие еще аппретуру новой ткани мундиры куда их так сказать втиснули: не старая видавшая виды форма, истрепанная за время учений многими поколениями рекрутов, каждый год подвергавшаяся дезинфекции и, несомненно, как раз годная для возни с оружием, походившая на те поношенные, взятые напрокат или купленные в рассрочку у старьевщика костюмы которые раздают статистам для репетиций вместе с жестяными шпагами и пугачами, но всё (мундиры, та экипировка что была у них) новехонькое, ненадеванное: всё (ткань, кожа, металл) первосортное, как то неоскверненное полотно что набожно хранят в семье, держат про запас дабы облачить в него покойника, словно бы общество (или порядок вещей, или судьба, или экономическая конъюнктура — поскольку как утверждают подобного рода факты просто-напросто вытекают из законов экономики) которое готовилось их убить нацепило на них (так же как поступали первобытные народы с молодыми людьми которых они приносили в жертву своим богам) все что имелось у него самого лучшего из тканей и оружия, тратило не считаясь с расточительностью, с варварской пышностью, на то что в один прекрасный день превратится в искореженный ржавый железный лом и слишком просторные лохмотья болтающиеся на скелетах (живых или мертвых), и сейчас Ллорж лежа в зловонной непроницаемой темноте теплушки для скота думал: «Но что же это такое? История подсчитанных, пронумерованных костей…» и еще: «Увы. Я влип: они пронумеровали мои руки и ноги… Во всяком случае похоже на это».