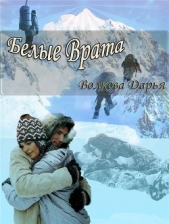Музей заброшенных секретов
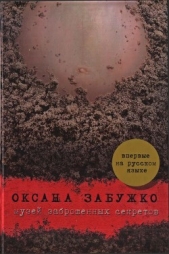
Музей заброшенных секретов читать книгу онлайн
Оксана Забужко, поэт и прозаик — один из самых популярных современных украинских авторов. Ее известность давно вышла за границы Украины.
Роман «Музей заброшенных секретов» — украинский эпос, охватывающий целое столетие. Страна, расколотая между Польшей и Советским Союзом, пережившая голодомор, сталинские репрессии, войну, обрела наконец независимость. Но стала ли она действительно свободной? Иной взгляд на общую историю, способный шокировать, но необходимый, чтобы понять современную Украину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так-так, а масло, которое я сожрала, похоже, предназначалось для всего стола, ах как нехорошо получилось, — дядечка лисячьей породы нацеливается ножом на опустевшую масленку, и на его блестящей физиономии, которую тоже бы не мешало промокнуть (и от чего это он так упрел, если из дверей так дует, что меня всякий раз, когда они открываются, бросает в дрожь?), вырисовывается неприкрытое разочарование: снова что-то выхватили у него из-под носа, и так всю жизнь! Ага, отсюда, значит, и тот скорбный рот обойденного судьбой — всю жизнь недоливали в миску, но зачем же так потеть-то, а? У него небось и руки мокрые, теперь припоминаю, что при знакомстве не подала ему руки, инстинктивно уклонилась, кивнула только… Чего-то я злой становлюсь пьянея, это что-то новенькое, не было со мной такого раньше, но что-то мне, ей-богу, обломалось всех жалеть, какие-то жалельные тренажеры во мне, видно, повредились и требуют ремонта… Адька машет рукой официанту, лысый откидывается на спинку стула и мелко, по-лисячьи смеется: хе-хе-хе. Как говорил наш оператор Антоша: спасайтесь — трезвеем.
Уже тогда, на вернисаже, меня не покидало впечатление, что Вадиму на самом деле плевать на все эти картины — раз нет той, которая их написала. Ему нужна была Влада — живая и теплая, а Влады не стало, и оставшиеся после нее работы должны были своим видом причинять ему боль точно так же, как ее одежда в шкафу — все те затейливо-артистические платья, которые она, когда у нее еще было побольше времени, шила себе сама, и более поздние, уже приобретенные в фирменных бутиках, целая стая изысканных, разностильных, классических, спортивных, авангардных и, тем не менее, чем-то неуловимо-Владиным связанных между собой убранств, словно экзотических птиц, что послетались к нему на Тарасовскую из мест, где она бывала без него: бледно-розовое миланское фламинго с крупными золотыми пуговицами, черный с просинью парижский дрозд короткого плащика, строгий, под горлышко, ярко-красный заокеанский пересмешник — Talbot, купленный, когда у нее была выставка в Чикаго, что-то еще нестерпимо-нежно-голубое, тропически-волнистое, что должно так идти блондинке и от чего мгновенно включается в памяти вспышка ее волос, — и как же убитый горем мужчина смог бы жить со всем этим птичьим базаром, который, чуть отодвинешь дверку шкафа, криком кричал ему в лицо об отсутствии хозяйки? Это уже относилось к Проблемам-Которые-Нужно-Решать, и Вадим ее одним махом и решил — вызвал бригаду из секонд-хэнда, и та в несколько часов упаковала всю птичью стаю в пластиковые мешки, как расчлененный труп, и увезла в неизвестном направлении. Одежду после покойника всегда нужно раздавать бедным, наставительно заявил Вадим, когда я только ахнула, узнав об этом: и ты что, всё отдал?.. А ты что, хотела что-то взять себе? — парировал он с хмурой насмешкой: мол, неужели я отношу себя к бедным? (Вадим умеет и любит обезоруживать оппонента унижением.) — Там же были ее авторские платья, Вадим, это же тоже творческое наследие, можно было бы выставку сделать, — я нарочно прибегла к аргументу, который должен был прозвучать для него убедительно, к твердому языку ощутимых эквивалентов, я знала этот язык задолго до знакомства с Р. и вполне свободно им, в случае надобности, пользовалась, и с чего бы, спрашивается, тот же Р. мог предположить, что этот язык мне неродной?.. Выставка авторских платьев, ну да, чем не дело, а уж чего я на самом деле втайне хотела — не себе и не «что-то», а весь ее гардероб оставить нетронутым, как накрыть стеклом и засыпать ямку, только бы знать, что где-то ее сброшенные перья есть, хранятся, застыли в ожидании на своих птичьих жердочках, и можно когда-нибудь прийти на это место, отодвинуть дверки, ведущие в землю: тук-тук-тук — и расчищенный секрет заиграет перед глазами живой россыпью разноцветных осколков: вот Влада в красном под горлышко, как птичка, повернувшаяся в полупрофиль, а в этом сиреневом платье — и такая же была шапочка с аметистами — я ее впервые увидела, едва успела тогда подумать: а это что за Белоснежка? — а уже в следующую минуту она впритык подступалась ко мне, раскручиваясь снизу вверх со вскинутой головкой, как кошка, что собирается запрыгнуть на дерево: добрый вечер, я Владислава Матусевич, — а вот шифоновый шарфик взлетает с порывом ветра, запутавшись в ее волосах, это август, кофейня в Пассаже, последняя осень, и ее бледное личико выступает вперед в пронзительной оголенности безлистного дерева, личико монастырского служки перед постригом, — то таких аргументов я Вадиму выкладывать не собиралась, да и не настолько хорошо он меня знал, чтобы принять их всерьез: такие аргументы, выдернутые из контекста нашей душевной жизни, всегда выглядят неубедительно и жалко, разве что Адьке я могу в чем-нибудь таком сознаться, и он поймет, а с посторонними лучше держаться у берега и не заплывать слишком далеко… Вопрос: а с Владой — как далеко Вадим заплывал? Выставку нужно делать не так, — только и буркнул он мне тогда в ответ: ничего обидного для Влады в том, чтобы так категорически избавиться от ее вещей (с глаз долой, из сердца вон!), он явно не соглашался признать, и вот вскоре ту выставку и сделал, и тоже — так, как сам считал нужным. На радость Нине Устимовне. Может, ему вообще нужно было жениться не на Владе, а на ней?..
У них теперь и правда что-то типа семьи — с Вадимом в роли воскресного папы для Катруськи. И Светочкой в роли папиной прислуги. Катруська обращается с Вадимом в точности как со своим лабрадором, названным, в честь российского президента, Путькой: демонстративно таскает его на людях за ошейник, то есть за галстук, чтоб никто не сомневался, что этот здоровенный и, в ее понимании, всесильный дядька принадлежит ей, называет его «Вадькой», как слышала от мамы, и обучает разным умным командам — как то: носить за ней лыжное снаряжение и вообще все, что ей вздумается. Неплохой тренинг для подростка — когда-нибудь эта барышня, когда вырастет, еще за нас за всех отомстит. Вадим на все это только сопит, как цыганский медведь, очевидно, не без удовольствия, а Н. У. с увлажнившимися глазами созерцает эту идиллию. Если подумать, Вадим совсем неплохо устроился — вместо одной потерянной женщины получил сразу трех, полный комплект: душевная привязанность — Катруська, духовное понимание — Нина Устимовна, ну и Светочка с ее постоянно рабочим массажным органом, куда всегда приятно всунуть вздыбившийся член. Особенно ежели тот некстати даст о себе знать, ага, — к примеру, когда Катруська с детской невинностью залезет к своему Вадьке на колени… Хотя у меня и есть большие сомнения, существует ли вообще детская невинность, тем более в поколении наших постсексуально-революционных деток: вон малец Мочернючки уже успел просветить маму, что секс — это когда дядя и тетя целуют друг дружку там, где делают «пи-пи», и предложил маме прямо тут, в ванной, где она купала его на ночь, в этом деле и поупражняться, — Ирка говорила, больше всего ее потрясло, как он при этом хитренько, исподлобья на нее смотрел: как мужик, ну точно мужик, Дарина, ты не поверишь!.. Фрейд на том свете потирает свои грязные ручки, а Катруське, кстати, уж сколько это — ну да, тринадцатый, самое время пасти ягнят за селом… О Господи, что-то уже и мне душно становится — где это тут была вода?.. Ага, а воду теперь скоммуниздил лысый, еще и поставил возле себя, чтоб под рукой была. Тоже правильно: я что-то отбираю у него (масло), он отбирает у меня (воду), и таким образом в мире поддерживается равновесие, и он (мир) продолжает крутиться. И так, зараза, крутится, аж в глазах темнеет…
— Извините, водички — можно?..
От моего голоса стекло между нами трескается, звуки сыплются на меня из общего шума кофейни, как ножи из мешка, каждый отдельно: звяканье тарелок из кухни, отчаянный скрип входной двери, резкое, как авто-аларм, сопрано за соседним столиком, и лысый тоже прорезывается неожиданно веским, самовлюбленным баритоном, привыкшим, чтоб за ним записывали (преподаватель, что ли?..): можно, можно, а как же, с превеликим удовольствием, он даже и сам нальет, о, уже суетливо тянется через стол (открывая мокро потемневшие подмышки и без того не особо свежей сорочки, видно, что не первый день надевана) — какой предупредительный! Адька сидит рядом с ним в своем элегантно расстегнутом пиджаке, свежий и спокойный, как шанхайский барс, прямо сердце екает от одного взгляда на него, — это его умение в сколь угодно фальшивых ситуациях сохранять абсолютно естественную невозмутимость — и кто бы подумал, что он здесь за дирижера! — всегда приводит меня в состояние немого восторга: неужели это тот самый мужчина, с которым мы прошлой ночью занимались любовью и чьи клетки, наверное, до сих пор кружат где-то у меня внутри, как пузырьки в минералке?.. Ах вот как, это «Перье». Большое спасибо, достаточно. Что, простите? Нет, вы не ошиблись, да, на телевидении, именно так, «Диогенов фонарь» (о боже, еще и это теперь мне выдерживать!..). Лысый источает масло (и зачем ему требовалось сливочное?) изо всех пор, как чудотворная икона миро, и с еле заметным наставительным превосходством (точно, преподаватель!) предлагает мне обратить внимание на уникальную тему, до сих пор, к сожалению, никак не освещенную в медиа, — герои киевского художественного андеграунда 60–70-х, целый малоизвестный пласт нашей культуры, и какой ведь пласт!.. Преподавательский баритон приобретает элегически-повествовательный темп, словно готовится тут же перейти в популярную лекцию, — нет, вот этого я уже не выдержу, слишком это мучительно для моей безработности: слушать, особенно если что-то интересное, — и не иметь возможности передать дальше. Знать, что этого я уже с экрана людям не расскажу: заглотну здесь, и так оно и останется лежать у меня в желудке непереваренным камнем (а на экране тем временем будет идти полным ходом шоу «Мисс Канал»…).