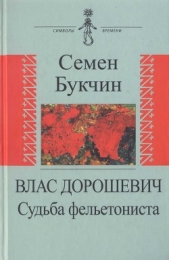Услады Божьей ради

Услады Божьей ради читать книгу онлайн
Жан Лефевр д’Ормессон (р. 1922) — великолепный французский писатель, член Французской академии, доктор философии. Классик XX века. Его произведения вошли в анналы мировой литературы. В романе «Услады Божьей ради», впервые переведенном на русский язык, автор с мягкой иронией рассказывает историю своей знаменитой аристократической семьи, об их многовековых семейных традициях, представлениях о чести и любви, столкновениях с новой реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помню, как пророчествовал мой дед, за несколько лет, месяцев и недель до кончины, о грядущем несчастье. Он говорил, что вся система морали, установленная победителями, неминуемо обрушится на них же. Повторял всем и каждому, что победоносная бомба скоро станет страшным наказанием для человечества. Что при первом же удобном случае, который подвернется, быть может, очень скоро, победители откроют для себя прелести пыток и концентрационных лагерей, что ничего удивительного не будет, если коммунисты и евреи поменяют роль жертв на роль палачей, в которой некоторые из них уже побывали, и в свою очередь станут под аплодисменты своих последователей сжигать деревни и расстреливать заложников. По мнению деда, все эти ужасы рождаются из-за непреодолимой заразительности зла. А также, и главным образом, из-за все более и более усиливающегося смешения справедливости и силы. «Мы не просто вступаем в век насилия, против которого все выступают и которое все применяют, — говорил он. — Мы более, чем когда-либо, погружаемся в век лицемерия. После разгула коммунизма, после гитлеризма и борьбы с гитлеризмом, после атомной бомбы, после Ялтинского соглашения и раздела мира всякое преступление будет выдаваться за проявление справедливости — человеческой, разумеется, справедливости, — якобы сменившей собою справедливость Божью. Руганная и переруганная инквизиция в новом обличии еще долго будет процветать. И в мире станет меньше красоты и святости, меньше величия и надежд». Одним из побочных последствий кризиса, переживаемого миром, является то, что мой дед, человек традиции и веры, тоже стал мало во что верить. Слишком много было поколеблено святого, принципиального, слишком много разрушено крепостей чести и уважения. От мира, каким его знал мой дед, оставалось все меньше и меньше.
А Клода я любил за его горячность, за его новую веру и доверие к будущему, по-видимому, доставшиеся ему от г-на Конта. В 1944–1945 годах он твердо верил, что человек станет лучше. Если деда моего одолевал скептицизм, то Клод подхватил у него эстафету, но вместо того, чтобы оглядываться назад, смотрел вперед: верил в новую прессу, в общественную доблесть, в социалистический гуманизм, в науку, основанную на моральных принципах, в прогресс, в будущее техники и красоты. Кажется, я где-то уже высказывал несколько рискованную мысль, что, как это ни парадоксально, но в моем дедушке было что-то от марксиста? Как и марксисты, дед долго верил в историю, в реальность, в силу. Во всяком случае, пока мы были сильными, он не очень заботился об абстрактной справедливости, которую он воспринимал лишь как нечто находящееся внутри определенного порядка, внутри определенной системы, некоей иерархии, неторопливо созревшей под воздействием времени и обычаев. Но, поскольку был он христианином, он смягчал силу жалостью. Клод же, хотя и являлся коммунистом или бывшим коммунистом, а до этого христианином, наоборот, отвергал силу и не признавал благотворительность: он хотел только справедливости. Всеобщей и абсолютной справедливости, обязательной для всех. А дедушка в нее не верил.
Судебные процессы, состоявшиеся после освобождения прежде всего, разумеется, над Мишелем, но также и суды над Петеном и Лавалем, равно как и Нюрнбергский процесс, весьма точно отразили новые расхождения внутри семьи. Дед был сторонником расстрелов без суда нескольких высокопоставленных ответственных лиц и явных преступников. И сторонником освобождения всех остальных: военачальников, теоретиков, журналистов, Морраса, Бразильяка и, разумеется, маршала Петена.
С некоторым перерывом де Голль занимал главенствующую позицию в нашей истории почти тридцать лет: с 18 июня 1940 года до конца шестидесятых годов. Главенство Петена после военной славы в Первую мировую войну длилось меньше: с 17 июня 1940-го до освобождения. Однако и тот, и другой в умах царили намного дольше лет своего реального правления и даже лет своей жизни. Через пятьдесят лет после их смерти имена де Голля и Петена не будут, разумеется, влиять на ход событий, но будут по-прежнему пробуждать чувства в сердцах людей, шедших за ними, восхищавшихся ими, любивших, а еще больше — в сердцах людей, ненавидевших их. Суд над Петеном и смертный приговор ему потрясли моего деда. Петен занимал наши умы и разделил членов семьи, наверное, в большей степени, чем дело Дрейфуса. Позиции поменялись: демократы и прогрессисты левого крыла перешли от защиты к обвинению, а дед пересел из кресла генерального прокурора на скамью защитника. Повторяю, возможно, уже в пятый на этих страницах раз: современная история интересует меня в данном случае лишь по отношению к моей семье. Так что я не выношу суждения: я не чувствую себя способным на это, да и не хочется мне этим заниматься. Я рассказываю лишь, о чем мы разговаривали между собой, встречаясь в Париже или в Плесси-ле-Водрёе. О судьбе маршала говорилось больше, чем о Дрейфусе или Гитлере, чем о религии или сексе и даже чем о семейных проблемах. А пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет спустя, увы, уже в отсутствие деда, нас снова стала волновать судьба генерала. Осуждение его французским народом потрясло нас, оставшихся в живых, быть может, еще сильнее, чем осуждение маршала Верховным судом потрясло нашего дедушку. Конечно, в семье нужны легенды и мифы. Миф о Петене как об униженном отце нации, о самоотверженном и несчастном величии. Или более близкая к реальности легенда о де Голле: одиночество победителя, преодоленные препятствия, слава, завоеванная после поражения, благодаря гению истории. Мифы нужны всем. Легенды нужны всем. Ленин, Сталин, Троцкий, Гитлер, Муссолини, Салазар и Франко, Рузвельт, Черчилль, Тито, Насер, Каддафи, Перон, а особенно, Мао Цзэдун, Петен и де Голль — XX век, век прогресса, науки и рационализма, будет, более чем какой-либо другой век, веком мифов и легенд.
Я перечитываю эти вот последние страницы о нашей семье в бурные военные годы. И меня берет сомнение. Не увидит ли неискушенный читатель в моем деде своего рода смягченную модель коллаборациониста? Я считал бы себя виноватым, если бы оставил повод для таких предположений. Дедушка питал к маршалу Петену некую амальгаму чувств: верности, уважения и огромной жалости. Он испытывал к нему больше уважения, чем к генеральному прокурору Морне, чем к Морису Торезу, вернувшемуся на родину с ореолом победителя, чем к Сталину и Вышинскому, установившим в Европе новый моральный порядок, сменивший гитлеровский режим. Быть может, дед был неправ, не знаю. Сам я в ту пору разделял, если хотите знать, скорее воззрения Клода, чем дедушки. Одним словом, дед мой симпатизировал Петену. Но вместе с тем и в то же время он — подобно тем парижанам, которые тоже неоднократно выражали свои симпатии маршалу, — был и на стороне союзников против гитлеровцев. Не думаете ли вы, что старый военный honoris causa — поскольку он никогда не служил в армии, — каковым являлся мой дед, остался безразличным к таким названиям и именам, как Хакейм в Киренаике и Страсбур, Леклерк и Кёниг? Он уважал Роммеля. А еще больше — Монтгомери. Он ненавидел и презирал Геббельса и Гиммлера. Но больше всех восхищался Черчиллем, его мрачным юмором, мужеством и упорством. И ничего удивительного: ведь Уинстон Черчилль был почти одним из тех Мальбруков, которых мы так любили. Попытайтесь разобраться во всем этом. История не такая уж простая штука.
В день парада в честь освобождения мой дедушка, девяностолетний старик, сидел на балконе издательства газеты «Фигаро», в самом начале Елисейских Полей. Место это для него выхлопотал Пьер, чтобы он мог оттуда смотреть, как его внук Филипп едет на танке от площади Звезды к площади Согласия, а другой внук, Клод, идет во главе своего отряда партизан. Двое правнуков нашего деда, присоединившиеся к партизанам, также участвовали в параде. Генерал де Голль шагал во главе огромного потока, спускавшегося по широкой авеню, по которой четверть века спустя пройдут, только в обратном направлении, другие демонстрации с противоположными целями. Получилось так, словно политическая карьера величайшего француза, едва вернувшегося на родину, уместилась между двумя массовыми шествиями, прошедшими с его именем на устах, а судьба его уложилась между двумя обращениями к народу: вдохновенным призывом от 18 июня 40 года и таким коротким заявлением от 28 апреля 1969 года: «Я прекращаю исполнять обязанности Президента Республики. Это решение вступает в силу сегодня в полдень». А в тот день генерал де Голль был выше всех, шагавших с ним рядом. Выступление с балкона мэрии Парижа, благодарственный молебен в Нотр-Дам, с пулями, свистевшими в храме, сопротивление союзникам, намеревавшимся уступить немцам Страсбур, неукротимая воля собрать страну под законной властью, полученной им не по наследству, не от Бога, не в результате какого-нибудь сомнительного голосования, а от самой истории, им покоренной, и от общенационального к нему влечения, наконец, народ Парижа, который шел за ним от площади Звезды до площади Согласия: после четырех лет борьбы, мужественной и страстной, легенда обрела свое место. За солдатами Леклерка шли участники Сопротивления, организованные по профессиональному признаку: пожарные, почтовики, железнодорожники, санитары, шли мужчины с повязками на рукавах и с транспарантами, представители службы газа и электричества, мусорщики. Когда наш дедушка покидал балкон и благодарил Пьера Бриссона, Пьер спросил его, что он думает об этом зрелище. «Недурно, — ответил старик, смутно помнивший еще те далекие годы, когда маршалы Франции верхом проезжали под Триумфальной аркой. — Недурно. Но не хватает порядка».