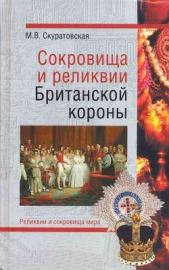Корона на завязочках
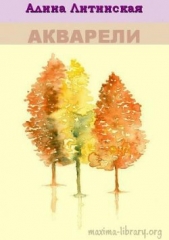
Корона на завязочках читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У него была формула: «Быть выше». Расхожие слова перестают быть расхожими, когда наполняются смыслом жизни художника. Быть выше — ни капли высокомерия. Это точка, с которой он смотрит на себя и на окружающее. Боль, куда ее денешь, а озлобления он избежал. И остался художником.
Коллажи, присланные из зоны, облюбованы, обнародованы в разных изданиях, расшифрованы — каждый из них имеет жизненную подоплеку.
Но есть один коллаж-не коллаж, который я называю «Здравствуй».
…Увидел картинку в журнале (может быть, в «Огоньке»), что-то почудилось, что-то привиделось, что-то вспомнилось… Вырезал, приклеил красногрудых снегирей и приписал в письме, что это я в детстве.
Хотя он понятия не имел, какой я была в детстве.
Но какая разница?
Художнику виднее.
Три пьесы
Сами события жизни выстраиваются так, чтобы, думая о них, «думать о хорошем» (если хочешь так думать).
Выставка украинского авангарда в Чикаго — радость. Не только от созерцания работ, но и от самих имен художников. Вроде время снова доверило мне отцовскую записную книжку, а в ней — имена друзей, а за каждым именем — целый пласт событий, памятных на всю жизнь. Многих имен я бы не увидела в этой виртуальной книжке; зато некоторые вижу так ясно, как видела на дверной табличке, на которой было написано:
Вадим Георгиевич Меллер
Помню, как выбирал, как терпеливо дожидался Вадим Георгиевич жилья, окна которого выходили бы на крыши города. Часто говорил, что не любит нижние этажи. (Помню выражение: «Не хватает воздуха и горизонта»). В Париже тоже старался забраться повыше, желательно, в мансарду. Так я услышала слово «мансарда». В отцовском лексиконе его не было. Жаль. Красивое слово.
Но высоко. Трудно добираться.
Мы живем в гостинице. (Только-только из эвакуации. Ждем жилья). Мы — это мои родители и я между ними (как у всех детей — «ушки на макушке») и наши соседи по временному гостиничному жилью: с одной стороны Вадим Гоеоргиевич Меллер, с другой — импозантный, высокий, всегда нарядный с непременной трубкой в зубах кинорежиссер. Обычно он разговаривал, не вынимая трубки, и потому казалось, что говорит сквозь зубы. Я думала, что он никогда не расстается с ней. Даже ночью.
Режиссер очень любил рассказывать смешные истории, но Вадим Георгиевич редко смеялся, а только протягивал рассеянное свое «да-ааа…» и с силой проводил ладонью по волосам, будто усмиряя их.
Жена Вадима Георгиевича — художница Нина Генке. Говорили: художница-модернистка, но я не понимала, что это значит. Их дочку звали Бригитта, но Вадим Георгиевич называл ее Машенькой. И мне это так нравилось. Изысканное имя свел к ласковому, домашнему обращению: Машенька.
Вечерами все собирались в нашем номере. Отец и Вадим Георгиевич, как правило, рисовали, а режиссер все пытался всех рассмешить. Но со смехом что-то не получалось: кажется, один он и смеялся.
Однажды к режиссеру приехала белокурая худенькая девушка. Мама спросила: «Дочка?». А он сквозь зубы, не вынимая трубки, процедил: «Внучка». И больше не приходил. Но все-таки один момент общего присутствия запомнила.
В один из вечеров Вадим Георгиевич и отец рисуют, как обычно, сидя возле круглого стола — чуть от него поодаль: отец пользуется этюдником, Вадим Георгиевич — рисовальной доской. Рисуют маму: она сидит по другую сторону стола в кресле.
В гостинице плохо топят и мама накинула пальто (отцовский этюд сохранился). Я лежу больная, с обмотанным горлом (и такой рисунок есть). Заходит режиссер и, пробираясь мимо сидящих, задел ненароком Вадима Георгиевича. И, как всегда, сквозь зубы:
— Извините, милейший…
А Вадим Георгиевич спокойно так:
— Ничего, голубчик, я привык к вашим ногам, — будто предвкушая тон привычных шуток режиссера.
Отец мой не раз повторял: Вадим Георгиевич — блестящий театральный художник и прекрасный рисовальщик.
Был и есть, наверное, такой цеховой термин для тех, кто умеет рисовать.
— Неужели есть художники, которые не умеют рисовать? Зачем же они стали художниками?
Все рассмеялись.
Но время показало, что это не так уж смешно.
И вот десятилетия спустя вижу на выставке эскизы к «Турандот» и возвращаюсь мысленно к Вадиму Георгиевичу.
Описывать и оценивать работы — не мое дело. Мое дело — радоваться, что они есть, что художник уцелел и что мне посчастливилось знать его.
Многое из того, что запомнила, осознаю лишь теперь. И то, с каким достоинством вел себя Вадим Георгиевич в самое нелегкое — послевоенное время, и то, как терпелив был ко всяким бытовым неурядицам: и это после Мюнхена и Парижа…
Сейчас множество печатных и непечатных — интернетных — источников, только руку протяни. И ответы на все вопросы. Но я не хочу этого делать. Не потому, что не доверяю, а потому, что ничем не хочу заслонять тот образ, который сложился с ранних моих лет, начиная с холодных гостиничных вечеров (пишу о холоде лишь потому, что вижу пальто на маме в отцовском этюде. А в атмосфере вечеров холода не было, а было живое интересное общение художников).
Теперь, спустя десятилетия, все, даже самые незначительные эпизоды, приобретают новый смысл.
Встретились мы как-то с Вадимом Георгиевичем в неожиданном районе — это было возле Батыевой Горы (название для киевлян). Время неуютное: зима закончилась, весна не началась, деревья голые, в воздухе зябко. Увидела Вадима Георгиевича — обрадовалась. Он удивился: «Ты что здесь делаешь?» Пошли рядом. Через несколько шагов он вскинул голову и говорит, что в голых ветках больше трагизма, чем в траурной музыке, а поэзии, говорит он, больше, чем в любой элегии. И еще он сказал тогда о художнике Саврасове, о том, что Саврасов очень чуток к такому состоянию в природе. И еще, помнится, добавил: дело не в грачах, а в ожидании…
Ну, тут уже совсем непонятно: какие еще грачи? Потом отец показал работу Саврасова «Грачи прилетели» и сказал: «Не в грачах дело. А в состоянии».
И я вспомнила Вадима Георгиевича.
У меня за окном в осеннее и весеннее время — настоящий Саврасовский пейзаж. Да еще с тоненькими остроконечными шпилями на горизонте. Красиво, грустно и напоминает о чем-то очень знакомом. Невзирая на другое полушарие. Как видно, не в полушарии дело…
Вадим Георгиевич взял меня легонько под локоть, и так мы дошли до моего дома.
А через несколько лет я получила от него подарок ко дню рождения: огромный букет ландышей, чуть не целое ведро. Он еще и потрудился над ним: освободил букетики от завязок и листьев. И получилась такая нежно-перламутровая пена. Целая шапка ландышевой пены.
Авангард, авангард… Какая разница, каким словом обозначать человечность.
Благодатна детская памятливость. Что-то из повседневности, как семена из почвы, прорастает и превращается в символы. Картины памяти, как старые фотографии: не просто изображения — вехи.
Помню высокую, статную женщину, что часто приходила к нам. Ее звали Эстер Вевюрко. Она жила в известном в Киеве доме — Доме писателей. Я думала, что именно поэтому она так складно говорит (магическое слово «писатели») и что поэтому ее так легко слушать. (Я же говорю: «у детей ушки на макушке»).
Запомнила: муж был писателем. Рано умер. Два сына, один из них — на фронте. Его звали Тоба. Запомнила необычное имя, потому что однажды Эстер пришла — не пришла, а ворвалась — с рыданиями, без конца повторяя это имя: получила похоронку.
И оставшись одна, Эстер стала рассказывать сказки. Ходила по школам, детдомам, клубам, домам пионеров — всюду, где были дети, — и рассказывала сказки. Приходя к нам, тоже рассказывала сказки.