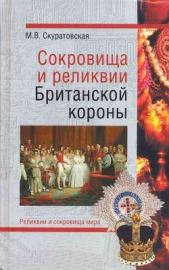Корона на завязочках
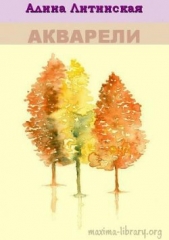
Корона на завязочках читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну и пусть замирают. И не ходите по первым рядам. Здесь только пижоны ходят. Пойду дальше, вглубь. Там приятно поговорить, по виду сразу можно понять, какой товар из своего хозяйства, какой — из чужих рук. И опять же, по лицам видно всё. «Хозяйка, тож капуста, тож вино, а не капуста, пробуйте, хозяечка…», — вот так напишешь, как ничего не напишешь, и ничего не скажешь, эту капу-у-усточку только эта бабка и может так назвать. И ходят люди по рядам, пробуют всё подряд и тем довольны.
А картошка — там в конце, почти у противоположного входа, который почему-то всегда закрыт, там же и цветы, но не породистые гвоздики и лилии, а полевые, они даже здесь лугом пахнут. А мужики продают, уж который год их знаю, красно-бурую, узловатую синеглазку: ничего вкуснее её нет. И мы улыбаемся друг другу, старые, можно сказать, знакомые, картофельники. Всё как обычно: беру, расплачиваюсь. А продавец держит бумажку: «Нету, — говорит, — сдачи. Ну ничего, сочтемся на том свете, на балконе». И кладет купюру в карман. Вот те на! Откуда он знает, что у меня балкон?
Избаловала меня Бессарабка. Избаловала разговорами, тары-барами: «Пятьдесят? — А за сорок?». Бог с ними с копейками, но без игры неинтересно. И вдруг — раз! Занесла меня судьба в Новосибирск. А там — всё другое. И рынок — не рынок. Несколько худых морковочек-луковок и петрушка, как деталь новорожденного младенца. А я по молодости-глупости и по инерции от Бессарабки спрашиваю: а можно не столько-то, а столько-то? Бабка поглядела протяжно, и жалобно так: «Что ты, милая, бери так». Ужас. По сей день помню.
Прихожу я, как договорились, через неделю, всё в тот же душный подвал к своему новому знакомому, которого мысленно называю Один-Зубочек-Часныка, смотрю — их уже два. Это мой сменщик, — говорит, — Ноэл Амстердамский. Ну сдуреть можно: оба длинные, плоские, только один — брюнет, другой — блондин. И имена — нарочно не придумаешь. Мой Часнык говорит: если хотите, мол, подождите немного, я работу вашу заканчиваю. А ты, — говорит, — Нолик, развлеки даму, покажи ей наши владения. Ну какие, думаю, владения в этой душной каморке, разве что какая-нибудь еще скрытая дверь. И точно: открывает дверь в какую-то бесконечную путаницу-лабиринт, а там трубы, батареи, ниши, трансформаторы и еще, наверное, много чего, но главное — полумрак, духота и — страшно. Это, — говорит, — подземные коммуникации, почти через весь город. Может, я, — спрашивает Нолик у Часныка, — какой-нибудь секрет выдаю? Может, это тайна?
Какая тайна, — говорит Часнык, — кому надо, те знают. Хотите посмотреть? Не хочу. Страшновато, надобно признаться.
А Ноэл Амстердамский оказался наредкость разговорчивым. В Бородянке работал грузчиком (интересно, что он там грузил, при таком телосложении?), а сейчас вот будет… как это… мастер? Ну, да. Мастер. А дома жена и двое деток. Электричкой два часа — надо угол возле работы снять. Каждый день туда-назад накладно, лучше — угол. Мать медработник в поликлинике, сестра — в конторе, племянница сидит в тюрьме, так что, всё в порядке. Но, наверное, скоро выйдет, она беременная. Рожать будет, а потом опять, наверное, в тюрьму. Если нет, надо ей работу искать. Вы заходите, а то, знаете, дни длинные на дежурстве. Вот освоюсь — покажу коммуникации.
А Часнык и вправду — художник по обутке. Из старых башмаков сделал что-то немыслимое, королевское прямо-таки. Настоящий мастер. Ноэл радуется: нас теперь двое. Я — Амстердамский, а он — Мастер Дамский. Часныку это, кажется, не нравится. Ну какой я «Мастер Дамский»?. Часнык я.
Ладно, мужики, пока. А то уже темнеет.
Сколько времени ушло на это путешествие, думаю я, глядя на часы со своего балкона? Час? Два? Или полжизни?
Паванна
— Пора ехать на концерт, а ты все возишься, капризничаешь…
Уж не знаю чего не хватает моей Настасье.
Едем мы с друзьями в парк. Не парк, а известное всей чикагской округе райское место. Одна только мысль о поездке вселяет радость.
Разгар лета. На небе ни облачка, ни малейшего признака угрозы сегодняшнему вечеру. Ожидаем встречи с человеком, имя которого звучит как имя родственника для каждого, кто приехал из России. Родственника по линии Конкурса имени Чайковского и по «Подмосковным вечерам» (Господи, неужели снова?).
Хочется увидеть, как выглядит наш американский старый друг. (Надо сказать, выглядит он превосходно: пружинистая походка, знакомая посадка головы. Вот шагнет он на сцену, и захочется воскликнуть: «Здравствуй, юность!»).
И наша группа являет картину далеко не самую плохую. Вид у нас если не преуспевающих американцев, то, во всяком случае, вполне умиротворенной части населения планеты.
Живи — радуйся.
Так нет же. Настасье всё еще чего-то надо. Что мне надо — знаю. Знаю и молчу. А тебе чего, Настя? Очки!? Какие очки? Темные? Зачем? Чтобы хуже видеть?
Настасья — психолог. Она знает, что если я пошевелюсь, то только для того, чтобы промакнуть лоб: жара и стыд. Расчет не на меня: «Я не тебе плáчу». Расчет на друзей. С их помощью можно добыть всё что угодно. Если не очки (всё равно о них все забыли, да и зачем они), то просто внимание, чтобы не забыли о присутствии. И не утешайте — бесполезно… И тогда повисает фраза:
— Настя, думай о хорошем…
Это звучит как пароль. «А я о нем и думаю», — отвечает память.
Миг — и никакого рая, никакой машины, никаких лауреатов.
Сурен Шахбазян, мутная неотмываемая бутылка в руках и вопрос, заданный тоном, не допускающим легкомыслия, деловой вопрос о жизненно важном предмете:
— Ты не знаешь, где можно на Крещатике купить подсолнечное масло?
— Знаю. Нигде. Нет подсолнечного масла.
— А что же делать?
— Ничего. Не думать о нем. Думать о хорошем.
— А я о нем и думаю. О подсолнечном масле.
Через минуту мы у меня дома: есть надежда отыскать бутылку масла. Но Сурен уже забыл, зачем пришел: он увидел швейную машину. И — мгновенно к ней. Как магнитом. И стрелки, вздрогнув, перескочили на следующий пункт его интереса: Сурен осматривает, ощупывает, чуть не обнюхивает машину, но она, увы, ручная.
— Ты не знаешь, где можно раздобыть старую швейную машину «Зингер»? Но непременно ножную.
Я не знаю, существует ли в природе та камера, которую Сурен совершенствовал долгие годы, применяя для этого привод от ножной швейной машины? И если существует, связано ли ее название с именем Шахбазяна? Как, например, название камеры «Конвас», что состоит из первых слогов фамилий ее изобретателей. Сегодня никого не интересует «Конвас» — это уже архаика — речь лишь о традиции.
Вот для чего Сурену «Зингер». И подсолнечное масло.
— Ты представляешь, — скажет он вскоре, когда наступят тяжелые времена, — ты представляешь их лица, — он подчеркивает это самое «их», — когда в доме не найдут ничего, кроме нескольких выпотрошенных швейных машин «Зингер», баночки с «Вегетой» на кухне, и даже подсолнечного масла не найдут. «Они» будут очень озадачены. Потрошитель швейных машин, скажут, — а потом, словно стряхнул с себя игривый тон, — не скажут, не скажут. Не надо упрощать, они не дураки и прекрасно всё знают. Будут искать улики. Какие? Кино, конечно. Спрячь это, и подальше.
Сурен держит банки с кинопленкой. Это «Саят Нова» («Цвет граната»). Теперь, через десятилетия, это признанный мировой шедевр, получивший множество международных премий. За операторскую работу — особо. А тогда — улика. Фильм опального режиссера, зэка Параджанова. И оператора Шахбазяна, не зэка, но не слишком лояльного.
— Спрячь, — говорит Сурен, — это первый вариант фильма, не принятый Госкино, его даже в Белых Столбах, в «Госфильмофонде», нет. Там, кажется, только прокатная копия.
Так и пролежал фильм на антресолях все четыре года, пока Параджанов был в зоне. Сурен забрал коробки, когда Сергей вышел на волю.
Сергей говорил: «У Сурена библейское лицо».