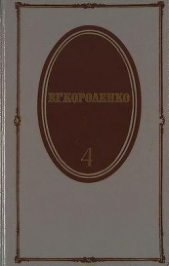По следам судьбы моего поколения
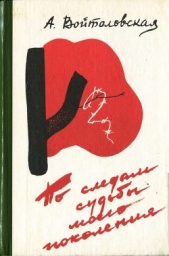
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не ты один объявлен врагом народа. Ты не знаешь, что творится на Воркуте. Идет полоса расстрелов не на одной Воркуте. Надо переждать, сейчас никто твои заявления читать не будет или они обернутся против тебя.
— Вот потому-то мы здесь, что все вы прячете голову под крыло, как курицы. Я не могу и не хочу думать, как другие, я хочу отвечать за себя и отвечаю. Я не хочу знать, что делается на Воркуте, ибо страх может меня удержать от того, что считаю для себя обязательным и единственно возможным.
— Твои действия безрассудны, продиктованы чувством, темпераментом.
— Правильно, чувства на то и даны, чтобы действовать.
Говорила о том, к чему привел пустяшный протест по поводу расстрела двух этапников в Кочмесе, на что Н. В. возразил: «Если уж жизнь наша так испоганилась и так все топчется, так стоит ли ею дорожить? Не отступлю, действий своих не изменю, чем бы дело ни кончилось. Напрасно тратим на споры считанные минуты. Уверен, что буду скоро дома и там буду продолжать протестовать. Здесь я бессилен. Мы не должны здесь оставаться (как будто это зависело от нас). Международная обстановка обостряется. Мы будем нужны на всех участках. Нельзя ждать, пока сверху посыпятся изменения. Я не отступлю, спорить со мной бесполезно. Мой протест не растает в воздухе. О нем узнают и задумаются». Я его не переубедила. Мы по-разному относились к событиям, и это омрачало встречу. У него были шоры на глазах, он видел одну линию и по ней шел к гибели.
Много лет спустя после его расстрела, во время следствия по делу нашего общего следователя, я поинтересовалась, имеются ли в деле Дрелинга его заявления-протесты против ведения следствия. Их в деле не оказалось, хотя перед расстрелом они там были, что очевидно по обвинительному заключению. Значит, добившись приговора Дрелинга к высшей мере, следователь их уничтожил. Никто о них не узнал, кроме следователя, против которого они писались, и никто над ними не «задумался», как то представлялось романтическому воображению Николая Викентьевича.
Работа лекпома ему нравилась, он даже увлекся ею, мечтал закончить медфак, решив, что медицина — его новое призвание, что в ней добро получает прямое и непосредственное выражение. В течение нескольких дней погрузки сталкивалась со многими лагерниками Адака, знакомыми и незнакомыми, и все в один голос говорили о своем лекпоме с признательностью и дружескими чувствами как о человеке, который постоянно поддерживает во всех бодрость, активность, шутит, острит, скрашивает жизнь, воюет с начальством за питание, больницу, санитарный минимум. Н. В. не позволил себе в лагере изменить угол зрения, под которым он смотрел на жизнь будучи на воле.
Все ночи грузчицы спали не раздеваясь, вповалку, на соломе в помещении, где ранее обжигали кирпич. К нам пробирались бывшие кочмеянки Аня Бокал, Маша Солнцева и Таня Адрианова. Маша — неистощимая остроеловка, умела всех развеселить, Аня и Татьяна чуть не до рассвета читали стихи, Аня со скрытым волнением, вполголоса, медленно Блока и Есенина, а Таня четко и сдержанно Гумилева, Ахматову и Багрицкого. Двойное бытие — придавленность жизни и ее избыток — являлось нашим постоянным спутником и достоянием.
Погрузка была нелегкой: Адак расположен на крутом берегу реки Усы. Разгружали обожженный кирпич из печей, перетаскивали его на гору, к пристани. Через два дня, когда он намок и промерз, спускали под гору, в трюм паузка. На козелки надо было накладывать кирпич в два ряда, штук по 16–18, спускаться по скользкой дорожке, затем подниматься по сходням на паузок и сбрасывать.
Учетчицей послали Зинаиду Немцову — недремлющее око администрации и воспитательной части. Роль надсмотрщика, сторожевого пса она выполняла отлично. Она обладала слухом и вниманием ящерицы. Немцова считала, что в лагере ее партийный долг заключается в слежке за тем, чтобы мы надрывались изо всех сил. Она упорно пересчитывала кирпичи, следила за их кладкой, как будто это было дело государственного значения. Несколько раз выведенные из терпения грузчицы предлагали ей поменяться с кем-нибудь хоть на полчаса.
— Э, нет, — отвечала Немцова, — вы сразу пойдете на поблажки, с радостью бы поразмялась, но дело пострадает.
— Не беспокойся, тебе поблажки не будет!
Она — доверенное лицо и ей надрываться не положено. Увы, вот эти худшие люди лагерей по выходе на волю вновь становятся «доверенными лицами» и носителями нравственных начал, проповедниками коммунистического труда. И снова за чужой счет, тогда — по подлости, теперь — по старости или еще по каким-то неуловимым причинам.
И в Адаке нашлись старые знакомые. Бледный заросший бородкой «зека» смотрит на меня и с улыбкой говорит: «А, и «наследственные интеллигенты» приехали на поклон за кирпичом? Работайте, работайте, заслуживайте звание новое, откреститесь, наконец, от старого!» Всматриваюсь и узнаю Николая Ивановича Лободу, бывшего ректора киевского ВИНО [16] (университета ранее), любимого нашего преподавателя, горячего, веселого и удивительно симпатичного. Онто как раз и снял с меня в киевском университете клеймо «наследственной интеллигентки», которое наложил председатель комиссии по чистке студентов тов. Бровченко. Происходило это в 1922 году, когда такое звание не грозило исключением, но и не придавало особого блеска имени. Демьян Бедный, когда ему об этом рассказали, с юмором заметил: «Слышал, бывает наследственный сифилис, а про наследственных интеллигентов узнаю впервые».
— Николай Иванович! И вы здесь?
— А чем я хуже других? Только вот кантуюсь среди инвалидов. Скучаю без аудитории, без…, ничего, это тоже история, но поставленная головой вниз, долго так не простоит!
— Почему вы на инвалидной?
— Старый туберкулез дал знать о себе на севере. Непрошеный гость. Нахожусь под началом «Викентьевки» (Н. В.), благо старые приятели по Киеву. Сейчас «порадую» доктора Шрайбера вашим прибытием, на днях вспоминали с ним книгу вашего отца «По следам войны».
Доктор, пожилой человек в пенсне, которых теперь не носят, узнав, что я дочь Льва Наумовича, бросился меня обнимать и расспрашивать об отце. Этих двух людей, сразу ставших близкими, просила уговорить Дрелинга не безумствовать и не рваться к верной гибели. «Бесполезно! — ответил Николай Иванович, — я уже пытался не раз, а он называет меня маловером и убегает на своих страусиных ногах».
В Адаке режим напоминал сивомаскинский, хотя зона и существовала. Больничка жалкая, а больных чуть не 90 %, бытовые условия те же, что и в Кочмесе, но ничего не строится, еще резче подчеркивается бесплодность существования на земле под названием Адак. А сколько здесь высококультурных и нужных людей!
После свидания с Дрелингом осталось чувство тоски, считала его обреченным в данной ситуации и ничего не могла изменить. Не могла, потому что им овладело строптивое и в то же время жизнеутверждающее нежелание подчиниться навязанной извне чужой воле. Это было сильнее его и руководило всеми его действиями против доводов рассудка.
Нагруженный паузок еле волочился против течения, а нами владело одно желание — согреться. Как только мы возвратились, река стала, и началась осенняя распутица, полный разрыв связи с внешним миром. Жить зимой в палатке уже казалось привычно. К чему только человек не может притерпеться!
Недалеко от меня поселили изящную, немножко заносчивую и капризную, но умную и очаровательную польку Викторию Щехуру. Она приехала в Кочмес с мальчиком Женей. Глаза и ресницы в пол-лица, толстый и неповоротливый, с кривыми ножками, но красавец. Его вскоре определили во вновь открывшиеся ясли, а Викторию направили на общие работы. Щехура инженер высокой квалификации, член партии. Дома, близ польско-белорусской границы (на советской стороне), остались два старших сына — школьники младших классов и муж. Женька родился в тюрьме. Пришли за ней ночью совершенно неожиданно как для нее, так и для мужа. Во время обыска муж закатил ей сцену: «Я не знал, что живу с врагом народа, ты подлая, как ты смела забеременеть, ведя подпольную, контрреволюционную работу», и т. д.