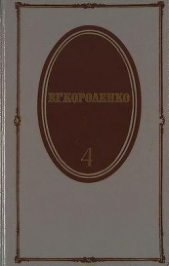По следам судьбы моего поколения
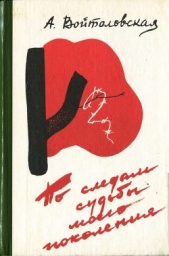
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Коммунистическая фразеология и господствующая идеология удивительным образом уживались с тиранией. Вопроса о том, как это происходит, никто не пытался разрешить. Однако несовместимость била по жизни, как несовместимость крови — резус, бьет по потомству.
Терроризм оправдывался борьбой с империализмом, фашизмом, игнорировалось очевиднейшее явление, что он изменил направление и бьет по своим, уничтожая не только людей революции, но и принципы революции.
Верили или не верили? В силу инерции под пыткой страхом принимали на веру и подчинялись инерции и дисциплине страха.
Из обвинительного заключения. Февраль 1938 года:
…Обвиняются в том, «что по заданию разведок враждебных Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщическую группу «право-троцкистский блок», поставивший целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение в СССР существующего общественного и государственного строя и восстановления капитализма, власти буржуазии» («Правда». 3 марта).
Бухарин хотел убить или арестовать Ленина уже в 1918 г., Крестинский — шпион в пользу Германии с 1921 г., Раковский — сотрудник «Интеллиженс-Сервис» с 1924 г. и японской разведки с 1934 г., «Троцкий уже с 1921 года нес шпионскую службу для одной иностранной разведки. С 1926 г. Троцкий продался и другой иностранной разведке». Через десять лет те же аргументы.
«Враги принесли в жертву светлые головы Куйбышева, Менжинского, Горького при помощи фашистов, извергов-врачей»… «Они замышляли убийство миллионов рабочих и крестьян, разгром советских городов, гибель советских заводов и колхозов»…
Ясно помню, как в тот день после прочтения газеты сдала инструмент, вернулась на крышу и в беспросветном отчаянии просидела там до поверки. Сквозь недокрытую крышу видела едва заметные бледные звезды на холодном небе, и жизнь представлялась такой же холодной, бледной, далекой и совершенно ненужной. Хотелось одного: безразличия и равнодушия ко всему на свете. «И наконец придет желанная усталость и станет все равно… Что? Совесть? Правда? Жизнь? Какая это милость»— вертелись в голове слова Блока.
Думаю, что таким приступам отчаяния были подвержены весной 1938 года едва ли не все заключенные. Впрочем, не только весной и не только в 1938 году…
Не так давно один товарищ, который был в заключении около двух лет, а затем всю войну на фронте в качестве врача, рассказывал о катастрофе, которая произошла с его госпиталем в поезде. Раненые были эвакуированы в тыл, а госпиталь передвигался к фронту. Под Полтавой началась бомбежка с воздуха. Был произведен массированный удар, и весь состав запылал. Погибло 60 человек. Доктор с другими бежал в лес и залег там до конца бомбежки. Смерть могла настичь всех в любую минуту. Он передал мысли, которые бродили в его голове: «Когда я лежал в лесу и видел горящий состав с гибнущими людьми, когда моя жизнь висела на волоске, невольно сопоставил арест и войну и твердо знал, что умереть сейчас, в этой страшной обстановке, неизмеримо легче, чем быть там. Поскольку существует война — бедствие всенародное. Почему не я, а кто-нибудь другой должен погибнуть? Смерть здесь закономерна, в такой гибели есть оправданность и смысл. Под огнем испытывал облегчение от того, что я не там. Совсем иное восприятие себя, окружающего мира».
Ряды женщин, живущих в палатке, редели. Брали на Воркуту. Некоторых, как слабосилку, перевели в Адак, на инвалидную командировку. Оставшиеся ждали своей очереди.
В июле работали на штукатурке и побелке клуба и столовой. Работа близилась к концу и на побелку потолка отправили двоих — Дору и меня. Мы стояли на стремянках с ведрами извести и длинными кистями, когда привели этап из нескольких женщин с Воркуты: Ольгу Танхилевич, Нину Булгакову, Раю Смертенко, Бети Гурвич и М. М. Иоффе, которую недавно увозили в Сангородок при Воркуте по болезни. Среди вохровцев, приведших этап, был тот самый Кошкин, который помогал мне при зашивании века и который позже сопровождал этап мужчин с Сивой Маски на Воркуту. На минуту вспыхнула надежда — возвращают, живы, ужасы преувеличены! Но стоило нам сойти со стремянок, разглядеть лица женщин, как пахнуло замкнутостью, скорбью, горем.
Нина Булгакова, с которой вели ночные беседы на Сивой Маске, поседела, похудела и заметно состарилась. Живот беременной женщины выпирал, как нелепое противоречие всему ее убитому виду. Она нервно замахала руками, как только я подошла к ней, желая этим выразить, что никакой разговор не возможен. Танхилевич, обаятельную, с веселыми проницательными глазами, окруженную общим поклонением, знала немного по Ленинграду. Сейчас ее лицо без тени улыбки было сухим, вся она выглядела подавленной, взгляд смотрел в себя, не отражая ничего из внешнего мира. Мне показалось, что и она, и Рая Смертенко тоже в ожидании родов. Последняя оставалась женственной в своем положении. Она скинула теплый платок с головы на плечи, волосы рассыпались кольцами, она беспокоилась о кипятке и хлопотала вокруг женщин. Мария Михайловна посмотрела на меня неузнающим взглядом и перевела глаза на окно, около которого сидела в полоборота, совершенно равнодушная к окружающему. У Бети резко обозначились морщины около губ и носа. Мы для этапниц — инородные, чуждые тела, что сразу почувствовали и, не решаясь даже предложить услуги, полезли на стремянки. Вскоре за женщинами пришел дежурный из бани, а из вохровцев остался в клубе один Кошкин. Он сразу узнал нас, но не здоровался. Мы же с бойцами охраны заговаривали только по необходимости. Он знал все о Воркуте и о наших товарищах с Сивой и ждал наших вопросов. Мы упорно белили. Заговорил он сам раздраженно, грубо, зло. Казалось, будь его воля, пальнул бы в нас из винтовки без всякого сожаления. Винтовка стояла рядом, и он за нее нервно хватался.
— Что? Не признаете? Или думаете я вас не признал? Здесь вам не то, что на Сивой Маске — ив лес гоняют, и землю зубами грызете… Все знаем.
На Сивой Маске он был сдержан и молчалив. Видно, Воркута— хорошая школа! Сейчас он был не похож на себя: он как бы выворачивал себя наизнанку, щеголял наглостью.
— Привез трех шлюх, вытащили, потому что брюхаты, а то бы и их туда же, в одну кучу… Пожалели! Нашли кого жалеть! Чего гниду жалеть, пожалеешь — вшой станет (его распирало от бешенства). А я еще на Сивой Маске за людей вас считал. Небось хочется узнать, что с вашими… дружками, где они и как поживают? Чего ж не спрашиваете? Я скажу. Почему не сказать? Поминай, как звали… Тю-тю-ю-ю… всех, всех, на развод не оставляли. Чтобы чисто было.
Ни тени доброжелательности не сохранилось в нем, он озверел и выплевывал всю накипь, что скопилась за исступленный тот год. Он бил сознательно каждым словом, как обухом по головам, и не боялся рискованности своих рассказов. Ненависть кипела в нем с откровенной силой, и он с удовлетворением изливал ее на нас. Во мне тоже накипала ответная ненависть к нему, и я уже дрожала с головы до пят. Белить было трудно, казалось, упаду. Уйти не могла — непреодолимо влекло дослушать, узнать, наконец, правду, какой бы она ни предстала. Кошкин прихлопнул плотно дверь клуба, придвинулся к нам с винтовкой, волоча приклад по полу. В пустом клубе каждый звук отдавался гулко. Он продолжал:
— На Воркуте все работали. Даром пайку не получишь. Потом списали их на Кирпичный. Я их долго не видел и позабыл даже, нужны больно… Сколько времени прошло. Работаю. У нас служба! Не то, что у вас — шаляй-валяй. Дисциплина! Гады дрыхнут, а мы их ночь карауль, в пургу, в дождь. Вы считаете — «попка», а мы — люди государственные. Да что говорить, разве вы понять можете? Потом вызывают на Кирпичный в распоряжение самого начальника Кашкетина! Не одного, целый взвод туда направляют. Тут-то я их голубчиков и встретил, ваших облезлых тракцистов, всю шатию-братию. И до чего же облезли — срам! Я же их с Архангельска вез — ни кожи ни рожи. Володька Карпенко гоголем ходил, — ног не тянет, Безазьян зарос, чистая обезьяна, Блюм доходит, Яшка Белинкис, Илюшка Ефимов, Попов Гришка, да все гамузом [13]… Соскучились без мужиков в Кочмесе — получайте приветы… Без них — обойдемся!!! А без нас — нигде! Несколько дней дежурными на часах простояли. Потом перетаскивали аммонал в горы, чтобы для этапов дорогу через Урал прокладывать на 501-ю стройку. Сообразили, что взвод затем и вызвали, чтобы этап сопровождать. Вернулись — нам день отдыха. В тот день с утра до вечера «зеков» по спискам вызывали, к этапу готовили. Вечером собирает нас начальник — готовьсь в этап, на следующий день. Всем «зекам» дали обмундирование хорошее, все первый срок, всем валенки, у кого нет. Мужикам и бабам. А они все как один доходяги на Кирпичном стали, не всех и узнал. Иные обрадовались: конец Кирпичному, хоть дальше, да, может быть, легче. Одеваются, переговариваются, ожили…