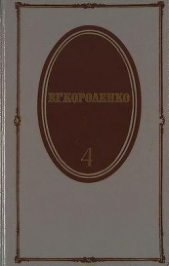По следам судьбы моего поколения
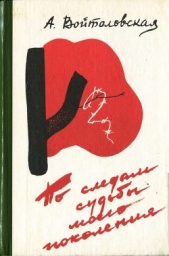
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По тону его, по голосу, по сжиманию нервно, до повеления пальцев, винтовки не сомневались, что не врет, не сочиняет. Слушали не в силах прервать, как вынуждены бывают приговоренные выслушать приговор. Правда носилась в воздухе, когда-нибудь вынуждены ее узнать.
— Мы выводили одну партию за другой… а там уже, другие делали… Зачем аммонал — мы догадались и вы догадаетесь… Обмундирование обратно мы сносили. Так всю ночь — туда и обратно. Потом перерыв день-два и снова мобилизация на ночь. Бабам, думаете, амнистия — нет на вас ее…
— Замолчи, подлец! — крикнула Дора не своим голосом, пинком ноги в ведро обрызгала вохровца с головы до ног, соскочила со стремянки и с воплем бросилась из клуба.
Я слезала с последней ступеньки своей стремянки, когда Кошкин швырнул ногой ведро мне под ноги, больно ударил ребром ведра пониже колен, но дал выйти. Слышала, как он остервенело, но тихо сказал: «Ничего, подлюки, на Воркуту я вас доставлю».
Кошкин — крестьянский парень, чуваш, взят, надо полагать, по мобилизации в армию, переведен не по выбору, а случайно по должности в военизированную охрану, в особые войска. Прежде всего он служил своей советской власти, другой он не знал и о другой никогда не думал. Приказывали — сопровождал этап, караулил, приказывали — стоял на вышках, приказывали — выводил под пулеметы, может быть, сам стрелял, если был признан метким стрелком. Во всяком случае, с его же слов, снимал с приговоренных к расстрелу одежду и сносил ее обратно для следующей партии. Но чтобы расстреливать ответственно или безответственно безвинных надо стать мерзавцем и иметь навыки палача. Или другой путь — путь ежечасного ожесточения, ибо нельзя отделаться одной безответственностью, одним выполнением приказа, будучи втянутым активным участником в террористическую систему. Предположим, ничто не смущало его при поступлении в особые войска, но далее он начал сталкиваться с осужденными, год прожил на Сивой Маске, слышал наши разговоры, видел на работе, наблюдал, взвешивал, думал. Не думать он не мог, ведь ничего внешнее его не отвлекало — ни труд, ни деревенские сходки, ни клуб, ни радио, ни кино, ни девушки. На нас смотрел исподлобья, с затаенной обидой, так как для заключенных он часовой с винтовкой и только. И нас, и его обязывало положение. Что же дальше? Как быть? Отказаться выполнять долг — не караулить, не этапировать, не стрелять, то есть стать дезертиром. Но почему? Он ведь не толстовец и не непротивленец. Этого не позволяла ему простая солдатская честь. И страх смерти тоже. Да он и не разбирается в высокой политике. А выход должен быть найден. Ему подсказывают, в чем его долг, — возненавидеть нас, оправдать ненависть нашей преступностью, изменой, чтобы таким путем утолить совесть, человеческие чувства, ужас, чтобы осталось в жизни нечто неприкосновенное, оправданное, чтобы не тащился за ним кровавый след убийцы, чтобы не страшиться собственной тени здесь и по возвращении домой.
Вот еще какая огромная прослойка людей была не только задета, но и перемелена в машине уничтожения.
Говорят, что всех участников операций Кашкетина позднее «пустили в расход», то есть подвергли смертной казни. Не знаю, насколько это достоверно, но думаю, что именно так и произошло. Что же думали кошкины и все эти без вины виноватые, когда их вели на расстрелы? Кого проклинали они в предсмертные часы? Обмануться в том, куда их ведут, они не могли, мешал собственный опыт. А если они остались жить и работать? Детям можно ничего не сказать, но о чем поведывали ночью женам, что почувствовали, когда услышали и прочли о сотнях тысяч невинно осужденных? Молодость большинства этих слепых исполнителей была отравлена, искалечена и, если они живы и не прошли очистительных испытаний войной, продолжает оказывать тлетворное влияние на всю их жизнь и на жизнь окружающих.
То, что вохровец в клокочущем порыве ненависти рассказал жестокую, горчайшую правду, подтвердили те несколько человек, которые уцелели после расправы. Привезли и уцелевшую Марию Яцек. Бедняга Маруся не успела передохнуть и оправиться от одних мук, как ее снова потащили на следствие Кашкетина, только уже на Печору, на Ухту, куда временно перенес центр своей деятельности палач Кашкетин. Там она сидела в тюрьме «ухтарке», с режимом на подобие воркутинских «тридцатки» и «Кирпичного». В пути Маруся Яцек была, по словам спутниц, забита, голодна, пуглива; при ней нельзя было заговаривать о Воркуте — начинались слезы, стоны, галлюцинации. Значительно позднее рассказала Лизе Сенатской следующее: «Жили женщины на Кирпичном в нечеловеческих условиях, как и мужчины. В сырых, темных и холодных казематах, на нарах без белья и без матрацев. На голодном пайке. Сивая Маска казалась приличным общежитием по сравнению с Кирпичным. Голод был настолько силен, что вытеснял все чувства и доводы рассудка. Поэтому, когда всех женщин, кроме двух, вызвали на этап, все обрадовались и повеселели. Зато две остающиеся слонялись, как убитые, считая себя обреченными.
Ночью конвой разбудил: «Собирайтесь с вещами!» Вывели первую группу женщин, затем вторую и третью, не сразу, по очереди. Но конвоиры были не те, что охраняли в течение месяцев, а совсем новые, и обращение было более мягкое и осторожное, чем обычно. Не торопили, не кричали, а дожидались терпеливо и тихо. Некоторые конвоиры даже говорили полушепотом. Среди собранных на этап пронесся вздох облегчения, как шорох, видимо, там, куда переводят, не будет такого страшного режима, как здесь. На душе у двух остающихся — Маруси и Лизы Дроновой — залегла тяжесть и тоска. Уходящие им сочувствовали и жалели и.
Постепенно ночью вывели всех, кто был намечен. Слышн было, что на мужской половине Кирпичного и во всех палатках тоже идет шевеление. Оставшимся двум женщине не разрешено выходить до утра. Обе не спали. В 6 часов утра, как обычно, подъем. Оправка происходила во дворе. Когда их вывели, обе явственно различили в горах пулеметную очередь. Еще совсем темно. «Озираемся, — говорила Мария, — не то бормочем между собой, не то спрашиваем: «Где стреляют? Почему стреляют?» Конвоир мнется и отвечает не привычным окриком, а поеживаясь: «Ничего не слышу, почудилось…» Но нам не чудилось, все время, пока стояли во дворе, равномерно стучали пулеметы.
Утренний завтрак вызвал полное недоумение и зародил тревогу — выдали по целой тарелке гречневой каши со шкварками. Голод превозмог все — кушали. Пища не принесла успокоения, напротив, с насыщением тревога и сомнения усилились: что происходит, почему накормили досыта, почему не взяли вместе с другими? Стучали в окошечко кормушки, спрашивали дежурного часового. Он просунул голову, как-то жалостливо улыбнулся и сказал не зло, а сочувственно: «Дуры вы, дуры, ешьте, пока дают. Это — тризна»… Остановился, помотал головой, хотел захлопнуть форточку, но снова приоткрыл ее и добавил заговорщически, вернее, пробормотал: «По вашему режиму… амба… кончился…» И захлопнул фортку. Слышим ходит, как всегда, но с нашей стороны пусто — ни одна форточка больше не хлопнула. Кормить нас стали прилично, обращение более вежливое. По утрам несколько раз снова явственно слышим стрельбу, а во дворе все тише и тише… Тоскуем, томимся, но не понимаем. Наконец, через две недели вызывают днем и нас на этап.
— Идите выбирать валенки!
Пошли в каптерку. И вот среди валенок вижу знакомые валенки Дуси Павловой, в которых она ушла на этап. Ошибиться я не могла. Я их знала, как свои собственные, — наверху они ей были тесны, прорезали и обшили треугольники нитками. Почему они здесь? Какое-то содрогание сердца произошло, еще не догадка, не сознание… Нет, ее валенки не возьму ни за что. А работник каптерки говорит: «Бери любые, не жалко, а лучше всех вот эти, смотри, домашние, черные, фетровые», — и достает из кучи мужские новые валенки. Тотчас узнала, чьи они. Несколько недель тому назад Федор похлопывал по этим валенкам, присланным из дому, на прогулке, радуясь теплу и тому, что домашняя забота дошла до Кирпичного, преодолев расстояние, зоны, решетки, режим. Со стоном упала на пол, потому что неясные предчувствия стали явью, пронзившей сознание… Моя напарница с выкатившимися от ужаса глазами показала мне на полушубок с гладкой кожей, который Шева Абрамовна ни за что на хотела сменить на бушлат и в котором она ушла «на этап». Сомнений не могло быть. Обе мы свалились на груду валенок и одежды, конвоиры с силой оттаскивали нас оттуда, обе мы не могли пошевелиться. Мы были раздавлены. Друзья, товарищи, самые близкие, самые родные… Никого, кроме них, все с нами переживших, не надо… Так вот куда нас собирают на этап! В мир «лучшего режима».