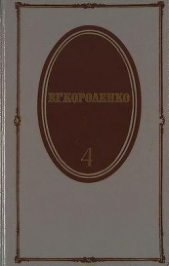По следам судьбы моего поколения
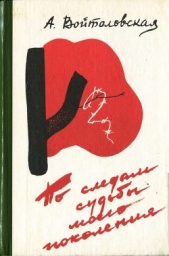
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«В 1938 году я закончила редактирование переводов ботанических работ Гете и перед самым арестом написала вступительную статью к ним. Ольга интересовалась моей погибшей работой. Ей хотелось потолковать и о Гете-художнике. Немецким языком она владела свободно, как русским. Взгромоздившись на верхнюю полку вагонки, где было место Ольги, мы восстанавливали содержание гетевского романа «Избирательное средство», она знала это произведение лучше и глубже, чем я. У нее было несколько книг по философии, в том числе два тома Гегеля и толстая тетрадь с конспектом его «Логики». Ей сложными путями удавалось их сохранять в лагере. Когда она освободилась и уезжала из Кочмеса, то просила агрономов сохранить эти материалы в лаборатории, но во время войны они «на всякий случай» все уничтожили — сожгли. Летом 1940 года я собирала гербарий для лаборатории. Ольга с удовольствием рассматривала засушенные растения, разложенные по семействам. Конкретность ботаники была далека и чужда ее абстрактному уму. Я пошутила, что у нее нет морфологического чутья, а через 17 лет, когда мы вновь встретились, Ольга вспомнила мои слова. Зато у нее имелось огромное чутье к поэзии. Она писала стихи, удачно пародировала Пастернака и не только его, сочинила целую поэму в гекзаметрах, в которой сравнивала меня, шествующую с измерительной линейкой для метеорологических наблюдений, с Доротеей из поэмы Гете. Все удивительно легко, свободно, по вдохновению, которое ее, безусловно, посещало, снисходило на нее и уносило в другие миры. Следовать за ней нередко было недоступно. Весной 1941 года она уезжала из лагеря полная новых надежд и с дороги писала: «Мы увидим небо в алмазах…»
Скупые строки воспоминаний Зельмы Федоровны вводят нас в атмосферу духовной жизни двух женщин, которые были отторгнуты и выброшены нашим обществом, как ненужный мусор. Не слишком ли большая роскошь для социалистического государства?
Оля говорила, что Зельма — знаток и переводчик немецких поэтов, в частности Рильке, досконально разбиралась и знала немецкую классическую философию. Между ними существовала глубокая духовная общность. Дружба и переписка продолжалась до конца Олиных дней — Зельма делилась мыслями своей книги о Пастернаке и Рильке, Ольга — содержанием своих работ по математической логике. Письма проникнуты глубоким уважением и любовью друг к другу, но переписка носит, я бы сказала, скорей мужской характер, отвлеченный и не затрагивает ни одной личной темы. Когда Оля умерла, я повидала Зельму Руофф; меня удивило, насколько она ничего не знала об обстоятельствах жизни Оли, о ее неизлечимой болезни и о личных драмах и тревогах. Вместе с тем 3. Ф. очень тосковала об Оле, а Оля, в свою очередь, не могла обходиться без писем Зельмы.
Меня влекло и тянуло к Оле. Стержнем ее жизни стала маленькая дочка Таня. В нее она вложила всю очаровательную женственность, которую ничем нельзя было уничтожить, свою последнюю любовь к Дале и неистребимую мечту о жизни. Позже я работала в яслях, и Таня недолго находилась под моим наблюдением. Это нас тоже сближало, тем более, что Оля как мать проявляла неопытность и робость.
Рождение Танечки вернуло Олю к жизни, дало обнадеживающий росток в будущее, которого некоторе время для нее не существовало. Когда уехали на волю как трехлетники Дора и Муся, Оля стала для меня самым близким и любимым другом. Она была ровна, ласкова и излучала особый свет. Со стройки меня перевели в ясли на должность старшей медсестры и часто я возвращалась часа в два-три ночи. Когда бы я ни вернулась, она всегда ждала и встречала меня: «Какой я для тебя вкусный обед приготовила!» — с улыбкой говорила Оля и вынимала котелок с баландой или кипятком, завернутый в теплый платок. Посылок мы не получали, но однажды блаженствовали целый месяц. Как мастер молокозавода Коля (Н. И.) имел льготное право на покупку 2-х килограммов сахара, а деньги зарабатывал на выгрузке Через нашего зоотехника, ездившего в Новый Бор, он передал 2 килограмма сахара и ботинки на резине, которые мне показались сапожками Сандрильоны. Ольга обладала способностью внезапно преобразиться и помолодеть до неузнаваемости и воскликнуть о ком-нибудь из заключенных: «Слушай! Это же умница! Чудесный мальчик, я завтра ему об этом скажу!» То была шутка, но независимо от возраста в периоды, когда ее не томил, не мучил недуг, Оля сохраняла где-то в глубине неистощимый запас свежих чувств, восприятий, реакций, свойственных молодости. Вдруг она становилась изящно-очаровательной, брызжущей полнокровной жизнью. Это бросалась в глаза. Как-то дочь моя Валюша летом 1961 года встретила Ольгу Марковну на биржевом мосту, горячо беседующую на ходу с молодым еще человеком. Оля поразила ее: «Навстречу шли двое, оба молодые, смеющиеся, веселые, оживленные, у женщины блестели глаза, а голос переливался от избытка жизни. Представь себе, как я удивилась и восхитилась, узнав в женщине Ольгу Марковну!»
В тот день Оля возвращалась с семинара профессора Шанина по математической логике и спорила с аспирантом кафедры.
Ни разу не видела ее плачущей, не помню, чтобы она на что-нибудь жаловалась. Сила духа преобладала над всем, хотя она не отличалась атлетическим здоровьем. Редко выходила из себя. Когда болезнь на воле сваливала ее, она исчезала на недели и месяцы, коротко писала, что она «не в форме» и не желает никого видеть. В состоянии припадков я ее ни разу не видела. Но некоторые вещи крайне волновали Олю, как правило, — общественные вопросы. Помню ее в лагере в сильном возбуждении, потерявшей равновесие, взволнованной. В обеденный перерыв, осенью 1939 г., она ждала меня. Дождавшись, схватила за руку и потащила в какой-то закуток, там развернула газету и в наэлектризованном состоянии стала спрашивать: «Что ты здесь видишь? Говори! Или я в бреду? Что ты видишь, почему молчишь?»
Газет мы не получали, сведения из внешнего мира просачивались скудно, не систематически, с большим опозданием. Оля работала в конторе и кто-то из работников УРЧа оставил случайно на ее столе кусок газеты с портретами Молотова и Риббентропа. Оля в ранней юности работала секретарем у Молотова и не хотела этому поверить. Обе мы были ошеломлены, Оля возмущена.
— Что же мы головы кладем за дружбу с Гитлером? Этого невозможно объяснить и выдержать. Чудовищно и неопровержимо!
Дня два она меня не замечала, мы едва перебрасывались словами. Когда я подошла к ней вечером, чтобы разорвать такое напряжение, она замахала руками: «О том не будем, не сердись, но, бога ради, молчи, я не могу! Такое сразу не переживешь. Лучше представим себе, что делают наши детки». К тому времени Оля отправила девочку к родителям Дали в Москву.
Запомнился разговор, который как бы предрекал ее судьбу. Его математическую линию помню смутно, лишь то, что личные надежды Ольга связывала с этой наукой. Ход ее мыслей был таков: «Одной из важнейших функций нервной системы является память. Она хранит результаты прошлых действий для использования их в будущем. Но память существует в комплексе: вместе с памятью логической в нас живет память чувств. В нашей психике они неразделимы. Часть моей психики, а значит и памяти, кровоточит. Я должна подавить ее беспощадно, иначе я лишусь возможности творческой деятельности, а значит, не смогу и не захочу жить. Но дело не только во мне, совсем не во мне. Помимо того, что люди не имеют заставить память работать избирательно, она, то есть память, несет на себе печать субъекитивизма, субъективного опыта и тем самым исключает правильность и объективность выводов. Единственный выход — расчленить память, — а она сгусток наблюдений и опыта, — на элементы и заставить вычислительные машины математическими методами избирать и фиксировать только необходимые нам функции памяти и всей нервной системы в целом. Мышление породило, создало математические законы, вернее выделило и нашло их, но оно в свою очередь должно быть очищено и подчинено законам математической логики, во всяком случае контролироваться ими. Для меня лично возможен теперь лишь один способ существования — заниматься математикой. Здесь я владею собой. Если увижу свое бессилие и в этой области, тогда конец. Танечке я тоже нужна только в таком случае. Мир, в котором я росла, думала, образовалась и до некоторой степени сама создавала, была очень счастлива и очень несчастна, от меня отказался безвозвратно».