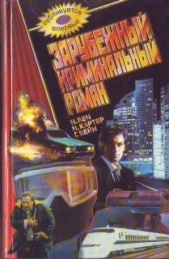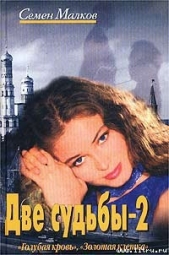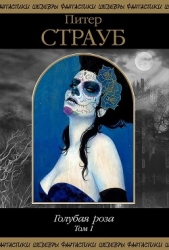Голубая акула

Голубая акула читать книгу онлайн
Литературный критик и переводчик, Ирина Васюченко получила известность и как яркий, самобытный прозаик, автор повестей «Лягушка в молоке», «Автопортрет со зверем», «Искусство однобокого палача» и романов «Отсутственное место» и «Деточка» (последний вышел в «Тексте» в 2008 г.).Действие романа «Голубая акула» происходит в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Его герой, в прошлом следователь, а после революции — скромный служащий, перебирающий никому не нужные бумаги, коротает одинокие вечера за писанием мемуаров, восстанавливая в памяти события своей молодости — таинственную историю одного расследования, на которое его подвигнула страстная любовь. Был ли Миллер, его тогдашний противник, знаток и страстный любитель рыб, только преступником, изувером, охотившимся на маленьких детей, или судьба столкнула молодого следователя с существом сверхъестественной, дьявольской природы? Как бы то ни было, та давнишняя драма представляется постаревшему, тяжело больному Алтуфьеву почти нереальной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, что до нашего с вами союза, ему, как я понимаю, угрожает только одна из этих причин.
Подобедов скорчил кислую мину:
— Вы неисправимы! А насчет причин, которые могут нам угрожать… Знаете, какая у врачей была жизнь при царе? Каторга! Смолоду эскулап только и знал, что копил на собственную клинику. Во всем себе отказывал. А как приобретет ее, вожделенную, бывало, уж и не хочется бедняге ничего, кроме мягкого кресла. Я — не копил. Что было, все тратил. По свету поколесил всласть. Женщины… что говорить!
И Подобедов облизнулся. Я вдруг понял, кого он мне напоминает. Костю Легонького! Хотя тот был адвокат, а этот терапевт. Тот длинен и сухопар, этот в теле и приземист. Этот бобыль, а тот… Полно. Владислав Васильевич ни сном ни духом не повинен в этом сходстве, к тому ж не лица и не судьбы, а так сходстве чего-то неуловимого…
— Все говорили тогда: «Дурак Слава! Порхает, как попрыгунья-стрекоза, а на старости лет у всех ровесников будут свои клиники, он один с носом останется». Теперь зато говорят: «Умный Слава! Он хоть пожил в свое удовольствие, а у нас все отняли».
— В сущности, вы кошмарный пессимист, — с безотчетным раздражением заметил я.
— Вовсе нет! — вскричал Подобедов, сияя. — У человека, живущего единым днем, как учили еще древние, всегда найдутся свои маленькие услады. Главное — не сравнивать бесценное сегодня с навек утраченным вчера и сомнительным завтра. В самые худые времена, когда все кругом только и делали, что жаловались и ныли, я твердил этим глупцам: «Помилуйте, господа, чем вы недовольны? Прежде мы томились скукой, сомнениями, пресыщенностью чувств. А теперь столько свежих, бесхитростных удовольствий! Пошел, например, в баню — уже радость. А ежели с мылом, и вовсе счастье!»[3] Однако мне пора, засиделся я с вами, батенька мой, за приятным разговором…
И Подобедов исчез, беспечный, словно пташка, и неумолимый, как уложение о наказаниях. За всей доверительной болтовней он, каналья, так ведь и не удосужился мне ответить.
Другой вопрос, зачем я-то вздумал к нему приставать. Неужто все-таки надеялся, что он разуверит меня в том, что я непоправимо знаю?
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Притча о блудном дядюшке
Пронзительный мартовский воздух кружил голову. Снег, подтаивая, приятно оседал под ногами. В гаснущих вечерних сумерках вороны еще не прекратили свои полеты. По темной синеве небес они мелькали, как черные тряпки, заброшенные вверх чьей-то озорной, но неловкой рукой.
— Вороны похожи на летающие тряпки, — сказал я Елене входя.
— Все равно я их люблю. Они умницы, — отвечала она.
Господи, до чего она была хороша! Я все не мог к этому привыкнуть.
Леденящий сердце пронзительный вопль раздался под самым окном. Ему ответил второй, третий — еще нестерпимее и протяжней. Видимо, коты оспаривали благосклонность Белинды. Всегда ненавидел этот звук, почти боялся его. Котовьи завывания кажутся мне предсмертными воплями гибнущего в муках младенца. Я чуть было не поделился этим оригинальным сравнением с Еленой, идиот несчастный! Хорошо хоть вовремя опомнился.
На скатерти у края стола лежало письмо. Элке выразительно показала на него глазами:
— Опять Фира убеждает меня отринуть мещанские предрассудки и последовать ее примеру. В красноречии ей не откажешь. А я так надеялась, что мы уже с этим покончили!
— Вы очень тоскуете по родным?
Елена взяла письмо, не торопясь сложила, спрятала в конверт и только потом отозвалась негромко:
— Нет.
Должно быть, она прочла удивление на моем лице. Засунув конверт куда-то на книжную полку, присела напротив и продолжала:
— Наверное, я кажусь вам черствой. Но я не хочу притворяться. Разрыв был тяжек, да, очень, однако потом…
Знаете, в нашем роду превыше всего ценится преданность семье. Надо принадлежать ей телом и душой, без вопросов и рассуждений. Свои — всегда свои, хороши они или дурны, чужие — всегда чужие: первых надобно предпочесть вторым, ибо они — родная кровь. И по этой же причине они вправе решать за тебя, как тебе жить. На то есть обычаи и опять-таки благо семьи. Если все это для тебя непререкаемо, ты достойна похвал. Если нет, есть множество мягких и жестких способов заставить тебя все же действовать так, как угодно семье. Все это, может быть, по-своему хорошо. Существуют благородные примеры в этом роде, есть судьбы и характеры, достигающие истинной высоты, живя по таким законам. Только все это не для меня. И не одна я такая. О них не любят вспоминать, но почти в каждом поколении кто-нибудь да сбивается с пути истинного. Был у меня дядюшка…
Я успел полюбить эти ее рассказы, хотя иногда забывал следить за мыслью. Просто смотрел, слушал, и высокие ласкающие волны уносили душу куда-то далеко от губернского правления, актов и протоколов, от Блинова, тонущего в сугробах поздней зимы.
— Он был папиным братом. В доме деда выросло много сыновей и дочерей, но отцовское место раввина, по обычаю, полагалось именно ему — старшему сыну. Он уже закончил курс, ему было сильно за тридцать, и все находили, что по уму, знаниям, характеру он просто создан быть раввином. А он вдруг влюбился до смерти в бедную и весьма своенравную девушку. Родители наотрез отказались принять ее в семью. У дяди был мягкий, уступчивый нрав, никто и подумать не мог, что он пойдет против запрета. Но он все-таки на ней женился. Возмутившись, отец лишил его наследства и прав старшего. Раввином стал другой сын.
Прекрасная Сандрильона оказалась злоязычной, вздорной бабой. Ее сварливость была так же неистощима, как ее плодовитость. Рожала она без конца. И всякий раз, когда дядя узнавал, что жена снова тяжела, он в честь этого события сажал яблоню. Это был единственный праздник, какой он мог себе позволить. Лишенная родительской поддержки, семья жила в страшной бедности. Характер его жены от этого не улучшался: она все не могла забыть, что выходила замуж за будущего раввина, а жить пришлось с босяком. Так она честила его и при детях, и на людях.
Он терпел годы, десятки лет. Ему уже сравнялось шестьдесят, когда он сбежал из дому, полюбив артистку из маленькой бродячей труппы. Вместе с ней он странствовал по местечкам, разыгрывая сценки из Библии. Думаю, он был наконец счастлив.
У меня защемило сердце, таким неведомым кротким сиянием озарились черты Элке. Это вдруг причинило мне боль, как будто видеть ее безутешной было легче…
— Брошенная жена обратилась с жалобой в общину. Ведь он покинул ее с целой кучей детей, из которых младшие были совсем еще малышами. Община вняла просьбе: его настигли и силой вернули под домашний кров.
— Что вы говорите? Это возможно?
— Да.
— И он не пытался больше бежать?
— Он удалился на чердак и там погрузился в медитацию над священными текстами. Оттуда никто не мог его больше вытащить. Ни община, ни жена уже не имели власти над ним. Вскоре он умер, оставив тринадцать детей и восемь яблонь. Посадил-то он, кажется, целых девятнадцать. Но яблони выживали хуже, чем дети.
Помолчав, она прибавила со странным волнением:
— Я ни разу его не видела. Но маленькой часто слышала разговоры старших о его безответственном, ужасном поведении. О том, что он пренебрегал долгом и поделом наказан. Иногда я плакала о нем по ночам. Мне хотелось, чтобы он был моим отцом. Я знала, что его дети ходят в отрепье, давятся яблоками и мечтают о куске хлеба, а у нас дом полная чаша. Но я бы все отдала, только бы стать его дочерью. Или возлюбленной. У меня сердце разрывалось, когда я думала, как я могла бы любить такого человека…
В тот вечер я возвращался домой раньше обычного. На душе было смутно. Ревновать к призраку? Чепуха! Старый безумец давно истлел где-то в польской земле. Мог бы я чувствовать и поступать, как он?
Тогда мне казалось, что нет. Но теперь, когда ничего уже не поправишь, я думаю, что духовное сродство между нами все же было. Элке, милая, я бы бродил с тобой по дорогам, голодая и холодая, развлекая публику и прося подаяния… Я был бы счастливейшим из людей, слышишь? Не слышишь. Да и что теперь хорохориться? В моей пьесе осталось только последнее действие: чердак и тексты, в которых к тому же нет ничего священного.