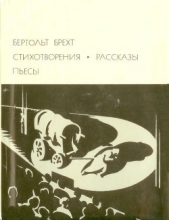В облупленную эпоху

В облупленную эпоху читать книгу онлайн
В этот сборник, третий по счету из составленных Асаром Эппелем для серии «Проза еврейской жизни», вошли рассказы семнадцати современных авторов, разных по возрасту, мироощущению, манере письма. Наряду с Павлом Грушко, Марком Харитоновым, Владимиром Ткаченко в книге присутствуют и менее известные, хотя уже успевшие завоевать признание авторы. На первый взгляд может показаться, что всех их свела под одной обложкой лишь общая тема, однако критерием куда более важным для составителя явилось умение рассказать яркую, заставляющую о многом задуматься, историю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ничего понятней нации этой девке не могло прийти в голову, — затянулась она сигаретой. А я сама понимаю больше? — усмехнулась снова, качнув головой. Сотрудница! И слово-то вылезло наспех. Яков Львович в издательстве подрабатывал внештатно, редактировал переводы недавно еще недоступных сочинений на темы истории, древних культур, философии. К открывшейся кормушке сразу пристроились пробивные халтурщики, не всегда понимавшие, что переводят. Яков Львович целые страницы иногда просто печатал заново на машинке. Спрашивать, почему он, кандидат наук, знавший четыре языка, довольствовался лишь отчислениями от чужих гонораров, вряд ли стоило. Не хватило, значит, каких-то других способностей. В институте, где он числился, зарплату совсем перестали выдавать — тоже обычное дело. Работать с этим симпатичным, мягким, эрудированным человеком было одно удовольствие, разговоров на посторонние темы они не вели…
— Мне больше нравятся такие, — у окна с другой стороны пристроились две женщины, рассматривали покупки. Стоявшая к Инге Лазаревне спиной стала примеривать на себя розовую вещицу. Волосы, давно некрашенные, были неряшливо-пегими, на макушке под ними просвечивала кожа.
— Нет, это вам не подойдет, — оценивала другая. Во рту у нее спереди поблескивал золотой зуб. — У вас грудь большая.
— Да я, вообще, подкладываю, — призналась та.
— Не знаю, что вы подкладываете, а я подкладываю капусту…
Инга Лазаревна отвернулась к окну, выпуская задержанный дым. Как я сама сейчас выгляжу? — подумала она. Нет зеркала, чтобы посмотреть, хотя бы поправить прическу. Совсем себя запустила. А кто-то сейчас видит меня: курит молча, на лице ничего, кроме усталости. Больше поверхности не увидишь…
Что-то в Якове Львовиче приоткрылось впервые, когда она случайно встретила его неподалеку от своего дома. Он шел по другой стороне улицы мимо вечерней витрины, уставленной яркими бутылками, без обычного своего портфеля, неровно, временами пошатываясь. Было так необычно увидеть его пьяным — она замерла, боясь, как бы он ее не заметил. В следующий миг он повернул лицо к фонарю, на щеках его блеснула влага. Он шел, точно ослепший от слез, забыв дорогу домой. Только что у него умерла жена, погибла в аварии или от какого-то несчастного случая, вразумительно понять было нельзя, он едва справлялся со спазмами. «Это была не она. Мне ее показали… это была не она». Нельзя было оставлять такого на улице. Она взяла его под руку, неуверенного, нескладного, как грузный подросток, привела к себе домой. Муж тогда еще жил с ней, он нашел наилучшее, мужское решение — в самом деле выставил на стол водку. Якову Львовичу много было не нужно, оба легко захмелели, заговорили сразу о постороннем — почему-то об интеллигенции. Что это такое? — прицепился муж к прозвучавшему слову. «Вообразили себя когда-то полумасонским орденом: наш долг заботиться о народе, о его просвещении, главное дух, на материальную повседневность плевать». — «Все определения не о том, — мотал головой Яков Львович. — В интеллигентности есть что-то от религиозного мироощущения. Вне конфессий. Человек свободомыслящий просто чувствует: есть требование. Что-то выше тебя. Ты не все можешь себе позволить. Не вправе». Инга Лазаревна прислушивалась, не вникая; пусть сейчас лучше об этом. Так бывает на оживленных поминках: пьют, шутят, смеются, потрясение вдруг словно забыто — по-настоящему оно еще не дошло. Но когда оба предложили Якову Львовичу у них же и переночевать, он отказался твердо. «Нет, я поеду. Мне надо домой. Там простынка ею пахнет».
Одного его Инга Лазаревна не отпустила, отвезла на такси, у дверей попрощалась — почувствовала, что дальше не стоит. Домой к нему она наведалась позже, вызвалась сама зайти за готовой работой: он по телефону пожаловался на боль в ногах.
Квартира была на пятом этаже, маленькое опрятное жилище бездетной пары. Стены одной комнаты, рабочей, состояли из книжных полок, дверь во вторую была плотно закрыта. Инга Лазаревна внутренне поежилась при мысли о прежде супружеской спальне. Фотографии покойной жены она нигде не увидела, неосторожно спросила о ней — Яков Львович замахал руками почти с испугом: нет, нет, не надо. Она поняла, что даже касаться этой темы больше не стоит. Взгляд ее запоздало отметил в кабинете узкую холостяцкую кушетку, сложенный клетчатый плед прикрывал подушку на ней. Спал ли он теперь здесь или просто иногда отдыхал? Он, смутившись неприбранности, увел ее поскорей на кухню, они там посидели за чаем, поговорили о невеселых издательских перспективах. Мало-мальски приличную литературу все больше вытеснял упрощенный ширпотреб, качеством перевода можно было пренебрегать, внештатному редактированию приходил конец.
Еще одну работу она для него все-таки выхлопотала, сама ему принесла. А потом стала заходить по пути, лишь отчасти по делу. Собственный ее дом тоже вдруг опустел, муж ушел окончательно, дочка снимала квартиру со своим новым другом, звонила все реже. С Яковом Львовичем она отходила душой. Он встречал ее, всегда аккуратно выбритый (хотя поворот света иногда выявлял на щеке огрех прозрачной щетины). Сидеть на маленькой кухне бывало уютно. Интересно было слушать его разговоры — то он обнаруживал занятную перекличку, почти совпадение у Платона и Лао-Цзы, которые один другого, конечно, знать не могли, то демонстрировал, принеся из другой комнаты книги, как противоположно оценивали поздний Рим, иудеев и христиан герои Пастернака и Маргарет Юрсенар. Круг чтения у него был обширный, из сопоставлений как бы сама собой рождалась неожиданная мысль.
«Вы не пробовали это опубликовать?» — спросила однажды Инга Лазаревна. Это было уже при последней их встрече.
Он отмахнулся:
«Кому это сейчас нужно?»
«Но для себя вы, надеюсь, записываете?» — полуутвердительно сказала она.
Он вместо ответа процитировал какого-то китайца: «Стремиться оставить след, память — значит думать о смерти, уходить от жизни. Признак настоящей жизни — бесследность».
Она пожала плечами:
«Не знаю, для нашей ли это цивилизации. Мы-то привыкли думать: если ничего от тебя не остается — зачем тогда все?»
«А если остается? — усмехнулся он. — Вот, квартира после меня останется. Кооперативная. Вопрос, кому?.. Да что об этом», — оборвал себя. И, кстати вдруг вспомнив, заговорил про евреев: вот в чьей культуре именно записанное считалось по-настоящему осуществленным…
У нее иногда возникало чувство, будто он говорит, стараясь заглушить что-то другое, остававшееся невысказанным. Она по себе знала, как это бывает, сама угадывала момент, когда правильней было уйти, не дожидаясь чего-то уже назревавшего. В тот, последний раз, чуть было не прорвалось. Уже у дверей, прощаясь, Яков Львович задержал ее пальцы в своих.
— У вас, — сказал, — такая теплая рука. И вы не пользуетесь духами. — Его вдруг передернуло от воспоминания. — Какой-то идиот в морге догадался обрызгать ее дешевым одеколоном. Это было невыносимо. Теперь уже не избавиться… не избавиться. Как можно было не понимать?.. Извините, — тут же опомнился он и ускорил прощание.
По дороге она вспоминала его слова, его напрягшиеся круглые плечи, вздрогнувший голос. Требовалось ли тут что-нибудь еще пояснять? Невозможность избавиться от воспоминания, невозможность вернуть другую, уничтоженную вмешательством похоронных служителей память? А, может, что-то еще, во что было бы совсем неосторожно вникать?..
Муж, помнится, усмехнулся однажды: «Ты, — сказал, — слишком умна для женщины». В усмешке его слышалась уязвленность. Мужчине становится неуютно, когда его видят насквозь. Но много ли надо ума, чтобы не чувствовать откровенную фальшь? Не сумела повести себя мудрее, по-бабски.
Разумно устроенной жизни мы бы просто не выдержали, подумала сейчас Инга Лазаревна. Да она бы сама развалилась. А без попытки устроить разумно — удержалась бы? На чем она вообще держится? Яков Львович сейчас бормотал о страхе — как это понятно. Все мы пробуем от чего-то укрыться. От жизни, это он знает. Стараемся в меру сил не замечать, не допускать до себя настоящего понимания — пока удается. Он и от болезни отмахивался, как от вопросов о здоровье, будто надеялся, что как-нибудь само рассосется. А над ним уже нависало. Так чего-то и не успел. О каких он бредил словах, буквах? Привиделось, будто пробовал написать?..