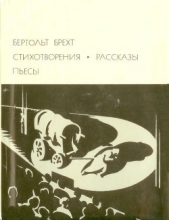В облупленную эпоху

В облупленную эпоху читать книгу онлайн
В этот сборник, третий по счету из составленных Асаром Эппелем для серии «Проза еврейской жизни», вошли рассказы семнадцати современных авторов, разных по возрасту, мироощущению, манере письма. Наряду с Павлом Грушко, Марком Харитоновым, Владимиром Ткаченко в книге присутствуют и менее известные, хотя уже успевшие завоевать признание авторы. На первый взгляд может показаться, что всех их свела под одной обложкой лишь общая тема, однако критерием куда более важным для составителя явилось умение рассказать яркую, заставляющую о многом задуматься, историю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Доброе утро, дядя Моничка, и зачем вы смотрите в этот картон, я знаю, что вы будете кушать — итак, манная каша, два яйца всмятку, нежирную сосиску, хлеб, масло, чай с лимоном и кукис (небольшие печенья).
— Да, да, — подтверждал дядя Моня и все равно смотрел в меню.
Одет он был скромно, но непоследовательно. Рубашка под пиджаком была застегнута не на ту пуговицу снизу, и воротничок слева открывал его плохо выбритую и худую шею, а воротничок справа подпирал его плохо выбритую челюсть. Плащ, который он снимал так же почленно и неуклюже, был вывернут наизнанку, он его вешал на спинку свободного стула перед собой, при этом я замечал плохо застегнутую ширинку на брюках, но туфли, как ни странно, были всегда чистыми. Правда, на Брайтоне всегда были чистыми тротуары… Наконец, официант, молодой человек лет тридцати в черной паре и белой рубашке с бабочкой, приносил поднос с завтраком для дяди Мони. Дядя Моня трясущейся рукой со столовой ложкой пытался зачерпнуть манную кашу. Получалось у него это с трудом, и поэтому, когда он в очередной раз нес ложку ко рту, она у него опрокинулась. Дядя Моня улыбнулся, и в это время к нему подошел официант и вытер его салфеткой, затем взял ложку и сказал: «Дядя Моня, давайте я вас покормлю». В глазах дяди Мони я увидел негодование, но потом смирение. Он ел, как ребенок, и иногда каша вылезала из его рта. Рука официанта тут же подбирала остатки и посылала обратно в рот. Наконец каша была съедена. Настала пора яиц. Дядя Моня поставил яйцо в разукрашенную подставку и начал легонечко бить по нему. Он долго не мог попасть по нему, и наконец, когда под треснутой скорлупой появилась аппетитная плоть яичка, он вонзил туда маленькую ложку, и в тот же момент на его рубашку и стол ударила струйка желтка, жидкого и горячего. Он инстинктивно отвел корпус назад и опрокинул на стол и на брюки чашку свежезаваренного чая.
— Ах, дядя Моня, ничего-ничего, вы не обожглись? — воскликнул официант. — Я вам сейчас все поменяю.
Дядя Моня переставил руками свои ноги и сел спиной ко мне. Стол был убран, и на нем снова появились яйца всмятку, нежирная сосиска, чай, масло. Только уже без манной каши. Яйцо одно за другим он съел при помощи официанта. Наконец, исчезла в утробе дяди Мони и сосиска. Завтрак продолжался, они перешли к чаю. Официант пытался разговорить и отвлечь от неприятностей дядю Моню: «Как обстоят дела с коитусом?» — «Вчера проснулся, мял, мял его, но ничего, одна моча выходит, хорошо». — «Что хорошего, дядя Моня?» — «Хорошо, что моча отходит, мне это так приятно, а так хорошо…» — «А что, на женщину хорошенькую не тянет, дядя Моня?» — «Тянет, но я думаю, что это радикулит», — улыбнулся дядя Моня и срыгнул прямо себе на лацкан пиджака. «Дядя Моня, потерпите, я сейчас». — Официант принес из подсобки большое полотенце, затем вытер все с лица и пиджака дяди Мони.
Затем он пил чай, шумно втягивая его в свое нутро и через рот, и через нос, надкусывая кукис с трудом, мягкие, сладкие песочные кукис… Наконец подошел официант: «Ну что, дядя Моня, может, еще что?» — «Нет, спасибо». — «С вас пять баксов». — «На, возьми, доллар оставь себе». — «Спасибо, дядя Моня. Давайте я вас проведу до дверей».
За всем этим наблюдал хозяин заведения с довольной улыбкой, и вот когда дядя Моня и официант двинулись к выходу, он подошел к дяде Моне и сунул в карман плаща сверток: «Моничка, дома съешь у телевизора, оладьи домашние, моя Фира приготовила». Дядя Моня не успел сказать спасибо, как в кафе вошла красотка с хорошей фигурой и аккуратным задом. Дядя Моня повернул голову ей вослед и посмотрел каким-то чисто собачьим взглядом: «Мой тип, — сказал он и цокнул языком, — попадись она мне лет этак… и что бы я с ней и сделал». — «Ладно, дядя Моня, пошли, а то разволнуешься опять… — Официант поставил его на тротуар. — Ну что, дядя Моня, дойдешь домой?» — «А куда ж я денусь? Не дойду, так дотолкают». — И двинул свой опорно-двигательный аппарат навстречу беспечным прохожим. Он шел все так же медленно, как и пришел, трясясь и оглядываясь на женские фигуристые привидения. Официант смотрел за ним еще долго, и я спросил его: «Что за странный клиент, такое ему внимание?» Он удивленно взглянул на меня: «Это же дядя Моня, еврей из Одессы, когда-то был известным в городе таксистом, сейчас постарел сильно, вот и все…»
Марк Харитонов
ГОЛУБИ И СТРИЖИ
Инга Лазаревна сменила бумажные пеленки на Якове Львовиче, как на разбухшем грузном младенце, не смущаясь жалкой мужской наготы. Он старался ей помочь, приподнимая поясницу, хотя ему больше казалось, что помогает. На ногах расползались пятна лилово-розовых язв. В левую локтевую вену воткнута игла капельницы. Прозрачный пух над ушами, безбровый лоб делали и покрасневшее лицо его трогательно младенческим, круглая чистая лысина лишь слегка подпорчена пигментными пятнышками.
На соседней койке замычал, заворочался искривленный маразматик, одеяло с него стало сползать. Его оставляли лежать нагишом на клеенке, чтобы не менять постоянно замаранное белье. Еще один обитатель палаты, у входной двери, уже вторые сутки лежал на спине без движения, дыхание было едва заметно, запавший беззубый рот делал его профиль заранее неживым. На тумбочке дожидалась чего-то бессмысленно оставленная тарелка с застывшей слизистой гущей, словно пища, предназначенная сопровождать уходящих в другой мир. Третий сосед появился здесь перед самым приходом Инги Лазаревны и сразу отправился выяснять, почему его, ходячего, сунули в такую палату. Насупленные надбровья, начальственные брыжи делали его похожим на готового зарычать бульдога. Найти в воскресенье дежурного врача ему до сих пор, видно, не удавалось, но перед уходом он запретил открывать окно, хотя на улице было тепло. «Вы что, хотите устроить всем пневмонию?» — рявкнул, вымещая на Инге Лазаревне такое справедливое раздражение, что она все еще не решалась нарушить запрет.
Сам Яков Львович, похоже, оказался здесь по ошибке. Он убедился в этом, когда заглянувшие в палату врачи стали переговариваться между собой, как при постороннем. «Одно дело инсульт, другое диабет, надо было сразу подумать». — «Да у него целый букет». — «А что тут делать с гангреной? Мы же не режем. Повесят потом на нас». — «Доживем до понедельника». — «До понедельника доживем». И рассмеялись чему-то своему, не задерживаясь больше в порченом воздухе. Обе женщины были не по-больничному ярко накрашены, под халатами угадывались нарядные платья, фонендоскопы, свисавшие на грудь, вызывали мысль об ожерельях.
— Мне пока ни с кем не удалось поговорить, — сказала Инга Лазаревна, как бы оправдываясь. — Тот же ответ: в понедельник все скажет лечащий врач.
— До понедельника доживем, — слегка приподнял Яков Львович кожу на лбу. — Ничего нового они не добавят. — Он слабо улыбнулся, тронул языком пересохшую губу. — Как-то я навещал в больнице одного старика, он мне сказал: «Я открыл у себя столько органов! Никогда прежде не знал, что они у меня есть. И знаете, как я их открыл? Методом боли». Я тогда подумал: а если болит душа — где это? Не стоит об этом сейчас. В больнице лучше не о болезни. Мне надо было сказать вам что-то особенно важное, все время думал, боялся, что не смогу…
— Вам трудно говорить, — сказала Инга Лазаревна. — Может, не сейчас?
— А когда же еще? Пока мы одни. — Передышка между фразами требовалась ему, похоже, не просто от слабости — трудно было собрать мысль. — Так много надо сказать, но не знаю… налезает одно на другое… начинаю путаться. Для меня здесь вдруг прояснилось. Говорят, под конец в человеке что-то поневоле меняется… не просто в сознании, в самой химии организма. У неверующих возникают мысли о Боге. Но химия у всех разная. Этот старик… он мне, помню, сказал: «Если бы мне помогли умереть. Я хочу, но не знаю как». Я стал говорить: «Разве так можно? Вы же верующий человек, вы не можете так думать». Он махнул рукой, — Яков Львович слабо, пальцами, попытался изобразить жест: «Что вера! Если бы сюда пришел черт и протянул мне в лапе смерть, я бы у него ее взял и расцеловал бы ему рога». Такие у него были боли. Я думал, что это можно понять, не испытав. То ли в моей химии есть что-то анестезирующее, то ли самому удавалось обойти. Вдруг дошло… как будто привиделось…