Запах искусственной свежести (сборник)
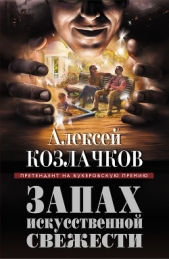
Запах искусственной свежести (сборник) читать книгу онлайн
Ты искал лампу с предгрозовым, преддождевым светом. Хотел включать ее, когда станет невыносимо жить, и наслаждаться ее теплыми, словно пропущенными сквозь янтарь лучами. Искал и вдруг вспомнил своего друга-фотографа, истинного художника, который бросил все и уехал далеко-далеко в поисках такого же прекрасного света. Уехал – и не вернулся. Трагически погиб в погоне за мечтой – в нищете и одиночестве. И тогда ты задумался: а не напрасной ли была жертва? Стоила ли она мечты? Может, лучше остаться здесь, в невыносимой жизни, чем, сражаясь за идею, вдруг погибнуть и оказаться там – в непостижимой смерти? И поразмыслив, ты купил обычную галогенную лампу, функциональную и недорогую. А свет… Зачем этот свет?..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В повисшую после рассказов о героических буднях и увечьях паузу Макс, смотревший до того стоячими глазами куда-то в селедочные объедки, вдруг вздохнул и сказал: «Да что там говорить, мужики, вот у меня тоже жена ушла к одному козлу… Так, ни кожи ни рожи, сморчок, бизнесмен поганый… Торгаш, в киоске продает, генеральный директор киоска. Родила от него дитеныша, пока я в рейсах был, снюхалась, падла, и я целый год думал, что мой, как родного тетешкал. А потом взяла и сбежала к нему, к этому козлу, вместе с сыном, и еще дочь мою забрала. Я пришел, дай, говорю, хоть на сына посмотрю, взял его, он тянется ручонками, папа, говорит. Я аж заплакал. Вернись, говорю, не могу без сына. А она, сука, улыбается: а это, говорит, не твой, а Ко-олин. То есть этого козла. Я чуть было не окочурился. Тут же. В больницу с сердцем попал. Потом вышел, дочь забрал, вместе живем. Яйца, что ли, этому козлу отрезать? – сказал он задумчиво в конце рассказа, а потом тихо спросил одного меня: – Слушай, Федор, а может, это все-таки мой сын, такой хороший хлопец, умный и на меня вроде похож; может, это она специально так сказала, а?..»
Внезапная тишина, воцарившаяся в нашем отсеке раздевалки, больше, чем прежний гвалт, обратила на нас внимание всего банного народа. Все поняли, что здесь было рассказано о чем-то совершенно убийственном, что заставило замолчать даже видавших виды, порубанных жизнью мужиков.
Затем вдруг все загалдели разом, и баня слилась в единое звучащее целое, за исключением двух-трех морально устойчивых мужиков, пьющих по своим лавкам чай из термоса.
«Стервозы, мокрощелки поганые! За что мужики в Афгане парились», – прозвучал чей-то тезис, имея в виду, очевидно, не только нас с Митей, но и всех, напружинивавших некогда жилы в нечеловечьем усилии борьбы за жизнь и с жизнью, парившихся неизвестно где – вовсе и не в бане, может быть, или в Афгане, как самом ярком символе героического предназначения всех хороших мужиков, исключая всех плохих и женщин, – всех, делающих свое бесконечное и трудное мужское дело, смысл которого хотя и был не всегда уловим, но высшая необходимость была несомненна. В то время как эти мокрощелки, мать их в душу, рожали от каких-то никому не ведомых козлов, генеральных директоров коммерческих палаток, ну может ли ниже пасть человек разумный, регулярно посещающий баню, если, конечно, они ее посещают, эти падшие люди…
Мы еще пили и пели песни, слов которых никто не знал, просто дружно рычали на разные мотивы. Очевидно, каждый пел свою собственную, заветную песнь.
Мы еще ходили в парилку и в пруд, напоили окончательно банщика Михалыча, так, что он лег отдохнуть на лавку и входившие в баню мужики накидали у его свистящего носа стопку из билетов, которая дрожала с каждым выдохом. А затем мы уговорились перейти к Мите домой и там продолжать.
7
Уже темнело, когда мы вышли из бани с Максом, его друзьями и старым летчиком, которого все звали Андреичем. Вышли и… замерли от восторга и выпустили густые винные пары в садящееся за пруд красное холодное солнце, исчирканное черными ветвями деревьев. В тонком льду, сквозь который просвечивала черная вода, отражалась красная дорожка садящегося солнца. Митя сказал, что к такому чудесному морозному закату следует пить портвейн. Макс восторженно поддержал, а старый пилот Андреич возразил, ибо мудрость жизни подсказывала ему, что смешивать нельзя. Мы тем не менее купили портвейну и пошли на Митькину дачу по дорожке, огибающей пруд, и были совершенно счастливы прожитым днем. Митя шел в обнимку с Максом, который ему заменял сломанный костыль.
Дома Митя принес с веранды целую корзину замечательных красных яблок, ранета и шафрана, очевидно падалицы, ибо были они мелки и червивы, но вкусны необыкновенно. И мы пили отличный дешевый портвейн Молдвинпрома, закусывая его хрустящими хозяйскими яблоками из корзины, даже не включая света, ибо на место закатившегося солнца выкатилась замечательная яркая луна и зависла в окошке. И было отлично видно все кругом: наши скульптурные, ужасно симпатичные в таком свете лица, корзину с яблоками и главное – стаканы с портвейном. Приверженец портвейна Митя, разливая его, смотрел стаканы на просвет окна, чтоб никого не обделить, и в стаканах мерцал лунный свет. Нам сегодня исключительно везло буквально со всем: с яблоками, с портвейном и даже с луной. Это справедливо, думали мы, ведь удача сопутствует удачливым, то есть достойнейшим.
Мы еще о чем-то говорили, о чем-то чрезвычайно значительном для всех нас, и многократно целовали друг друга от счастья и от важности разрешенных вопросов, поражаясь их недавней неразрешимости. Мужики удивлялись Митькиным книгам, называли его философом, а он говорил, что он не философ, а электронщик с серьезным космическим уклоном, что гораздо нужнее для общества, а вот я философ. Мужики уважительно смотрели и на меня, и на Митьку. И говорили, что вообще-то жизнь сложна и теперь в ней никто ничего не понимает и не поймет: ни электронщики, ни философы, ни даже они – дальнобойщики. Мудрый пилот Андреич, заваливший на своем веку, скорее всего, не один мессер и довольно долго наблюдавший эту жизнь с большой высоты, так что она казалась ему муравьиной, понимал все, конечно же, лучше нас всех, вместе взятых. И мы доверяли его высокому опыту и слушали внимательно, как он воспитывает свою внучку, работая вахтером посменно, ибо сыну его не повезло в жизни сделаться пилотом, и он, видимо от огорчения, запил, не найдя себя нигде на земле. Ведь летчик – это самая достойная, самая замечательная профессия, в достоинстве своем превосходящая даже профессию шофера и далеко возвышающаяся во всех смыслах над профессией космического электронщика, не говоря уж о профессии философа.
Но не только об этом, а еще о чем-то более важном говорили мы беззвучно и бессловесно, оглядываясь на луну. Или мне так казалось, ведь я тоже о чем-то рассуждал или на что-то жаловался. Но на что – не помню.
Потом все начали расходиться, уже поздним вечером, поклявшись до смерти не забывать друг друга и наделать друг другу кучу добрых дел. Максу с друзьями надо было еще добраться до Люберец, а Андреич успел подремать и, проснувшись, сказал, что его ждет старуха. Мне же было уже бессмысленно куда-нибудь ехать, и я сказал Мите, что остаюсь у него. Митя бросил на пол какой-то подозрительный, воняющий прелью матрас, и я стал укладываться на нем, не раздеваясь. Он сидел на своей койке и вдруг задумчиво сказал:
– Тебе хорошо, Федя, у тебя есть жена и сын. А у меня, наверно, никогда не будет сына. – Он повернулся и посмотрел в сторону луны.
– Брось, старик, еще будет. В сущности, жена, Митя, – это форма самозабвения, приблизительно равная всему остальному в том же роде: ацтекам и инкам, санскриту и портвейну, ранету и шафрану… Понимаешь ты… все так запуталось, что трудно сказать. Но я скажу тебе честно… Жены, Митя, нас не спасут! Они только отвлекают. А вот сын… Это уже на самом деле страшно, значит, его стоит иметь. Смотришь в сына, а видишь все равно себя. Сын увеличивает перспективу при разглядывании себя. Страх за сына экзистенциален и животворящ. Он не дает забыться. Из-за этого нужно иметь терпение и даже жену.
Я делался болтлив и придурковато глубокомыслен.
– Федя, я ничего не понял, – сказал мой друг грустно, но честно.
– Да ладно, Митя, спи, я сам тоже ничего не понимаю.
Перед сном Митя надел себе на голову какую-то сетку, сплетенную из алюминиевой проволоки, и сказал мне, чтоб я не удивлялся, ибо это очень удобный и эффективный экран от телепатического воздействия на расстоянии, которое особенно отвратительным бывает по ночам.
Я уже давно ничему не удивлялся.
8
Пьяной задыхающейся ночью, ворочаясь на грязном матрасе, я видел во сне своего маленького сына Петрушу, который не дождался нынче своего беспамятного, непутевого папку домой. Он стоял одиноко по-взрослому в углу своей кроватки, опираясь раскинутыми ручками на высокие перекладины, улыбался совершенно непереносимой без защемления сердца улыбкой родного дитяти, в которой исчезала и тонула вся моя прошлая и будущая жизнь, в которую проваливался обезноженный войной, теряющий разум Митя с костылем, куда со свистом ухнули простодушные банные мужики и еще какие-то голозадые военнообязанные крупных и мелких размеров с кучерявыми членами различной конфигурации, с фигурами сильными и молодыми, а также не слишком сильными и не слишком молодыми, и где-то там, на самом дне его взгляда, покоились другие мужики и юноши, столь густо устлавшие своими костями каждую ложбинку в сырых и темных, в неуютных лесах Северо-Запада. Петруша лучился бездонными глазами и спрашивал, кивая головой: «Папа, ты когда залаботаес денюсек купис мне блонетлансполтел и пистолет пиу-пиу, как у Еголки? Купис, да? Купис?»

























