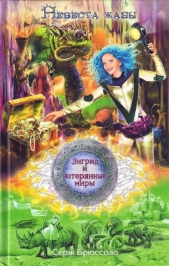Новый Мир ( № 3 2009)
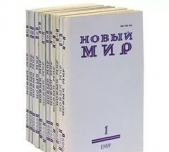
Новый Мир ( № 3 2009) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да ты с ума сошла!
— Почему? — печально спросила она.
Огонек потух, косые глаза смотрели сумрачно и дико.
— Ты не должна.
— Почему? — повторила она так же плавно.
— Потому что — Господи, не знаю, ты встретишь кого-нибудь — очень скоро, молодого мужчину. — Что я несу? Где она его встретит? — Он будет ухаживать за тобой, вот в него будешь влюбляться!..
— Как в сказке про русалочку?
— Да.
— И… И целоваться с ним? — Она медленно, словно копируя кого-то, влажно облизнулась. — Целоваться — и все другое? — Рука ее поползла вниз по телу.
Каркающий смех раздался над ухом. Я, как ужаленная, дернулась.
К счастью — прервали. Но кто? Над нами стояла сифилитичка и плевала себе на коричневые ладони.
— У тебя никогда не будет мужика, Настенька! Тебе придется как-нибудь научиться удовлетворяться самой, я тебя научу — хочешь?..
— Отстань от нее! — выкрикнула я. — Настя, не слушай!..
Сифилитичка попятилась, юркнула в туалет и, придерживая дверь, погрозила мне кулаком:
— Мы еще с тобой поговорим, Настя, слушай, Настя, не слушай!..
Когда я вернулась в палату, Милаида Васильевна поманила меня пальцем и сказала, усмехаясь:
— Ну, поела черешни?
Меня передернуло.
— Настю в детстве изнасиловал отчим. Теперь ясно?
Иногда, лежа в кровати, я очень хорошо представляла, что происходит там, в мире. На зеленых улицах Лотта цедила сквозь зубы слова, как коктейль сквозь соломинку:
— Все деятели искусств, в сущности, сволочи и Божьи дети, сучье отродье. Капризны и прихотливы, как оранжерейные растеньица, надменны, как красивые женщины, и равнодушны, как постантичные статуи, которые украшают парки со времен советского периода. Не дай бог влюбиться в деятеля искусства.
Делала тугую затяжку и сбрасывала сигаретный пепел на черный резиновый коврик переднего сиденья автомобиля. За рулем, допустим, сидел Игнат, он поглядывал на Лотту искоса и улыбался, она, воодушевляясь, пьянея от собственного красноречия, продолжала:
— Не служившие в армии воины, не имеющие партий политики, а читателей — писатели, безденежные бизнесмены, не читавшие молитв монахи, ничем не владеющие князья, не бывавшие в разборках беспредельщики — какой ты беспредельщик вообще, если пережил девяностые, — вся эта шушера, шелупонь, коллекционеры благоглупостей, собиратели пустот, терпеть их не могу, и… Если влюбляюсь, то именно в таких.
Игнат улыбался и жмурился. Кожаная кепка с околышком лежала на заднем сиденье.
— Вообще странно, что такая прекрасная девушка, как вы, остается без мужского внимания…
— Без внимания я не остаюсь! — воскликнула Лотта моего воображения.
— Да. Конечно.
— Но единственное внимание, без которого я осталась, действительно, это…
Игнат снова поглядел на нее, но ирония мелькнула во взгляде, а может, нет — но уже нельзя сказать, передумала Лотта в тот момент или с самого начала говорила не об Игнате:
— Это внимание моей подруги. Бедняжка! Ей теперь самой требуется внимание, а я даже не могу ей помочь.
И Лотта со сладострастным наслаждением, с видом самым сокрушенным рассказывала обо мне, валяющейся здесь в психическом полупараличе, в одном непрекращающемся спазме. И должно быть, она и сама в эту минуту верила в свое сочувствие:
— Отказывается кого бы то ни было видеть из своих друзей, точнее, к ней отказываются пускать — вы ведь знаете все эти ужасные порядки в сумасшедших домах. То есть нет, вы, конечно, их не знаете, откуда. Как? Разве вы не в курсе, что бедняжка загремела в психушку?
Нет, моя Лотта была доброй женщиной. Тем более что все это, в сущности, совершенно невинно.
Рука нашаривала под подушкой сигареты. Должно быть, я несправедлива к своим подругам, реальным или мифическим. Может, подобные разговоры вовсе не происходили за моей сутулой, узкой, пропахшей сигаретным дымом спиной.
Было ясно. Совершенно ясно, что для нас и Господень Суд — мера запоздалая и недостаточная. Стараясь не глядеть на лампу, которая гипнотизировала, я тяжело поднялась на кровати — мертвец, вставший из неповапленного гроба, и, следуя совету, посидела, свесив ноги в разных носках. Достала из-под матраса тапочки и кинула на линолеум — они упали с гулким стуком. Снова сыскала под подушкой сигареты. В палате раздавался тяжелый храп. Они дышали на разные лады, и согласия не было в этом сне. Снились кошмары — постанывали.
Когда голова перестала кружиться, встала и побрела в туалет. В туалете, тоже освещенном, на ведре курила тяжелая женщина, которую я не знала. Я влезла на подоконник, подогнув под себя ноги, — сам по себе он был слишком холодным, чтобы сидеть на нем. Газ кончился в зажигалке. Почиркав без искры, спросила:
— Спичек нет?
Она пошарила в кармане и сказала:
— Только из моих рук.
Я сползла к ней.
— А почему только из ваших?
— Так они отбирают же.
Она глядела устало. Лицо ее было землисто.
— Не спится?
Она не ответила.
В туалете, пока никого нет, кафельное эхо множит отзвуки. Зажурчала вода этажом ниже. Из крана, как из пасти змеи, капает медленная слюна, объявление “Больным запрещается пить водопроводную воду” почти размыто от брызг. Собеседница встала, покрутила белый с синей крапиной рычажок и приникла губами к струе.
— А между прочим, они правильно пишут — не стоит пить сырую воду, — зачем-то сказала я.
На краю раковины лежит обмылок — кто-то забыл унести свой или положил так. Вообще же здесь не держат в туалете мыло, точнее, оно здесь не задерживается. Многие носят мыльницы с собой, благо вместительные карманы.
— Ты, видно, не умеешь читать. Тут написано — “запрещается больным”. Здоровым можно. — И, без перехода: — Нельзя быть суровой к людям, о которых ты ничего не знаешь. Вот ты думаешь, смотришь на меня и думаешь — убитая женщина. Ты, наверное, скажешь, что ничего такого не думала. Молчи. Думала. Да, я убита!.. — возвысила она голос и спохватилась: — Сейчас прибегут еще.
Села на ведро.
— Да, я убита, но знаешь ты, отчего? Кто убил меня?
— Вы живы.
— Сын. Сын убил… Для того я, что ли, его рожала? Девять месяцев ходила, всю еду срыгивала, а пальцы стали толстые, как сосиски, — она выставила руки, приглашая убедиться, какие стали пальцы, — стали очень, очень толстые пальцы, они не влезали в перчатки, пришлось варежки носить, я не люблю варежки, а ты? Сын, все сын, убил он меня, знала бы — сделала аборт. Ты знаешь, что аборт больше не запрещают?
— Да?
— Да! Сейчас вся Европа сказала: надо делать аборты. А почему? Потому что сын может убить родную мать. Ты когда-нибудь слышала об этом?
Я осторожно покачала головой.
— Вот. Не слышала, и никто не слышал. У каждого ребенка есть право быть нерожденным. Они даже выдают компенсацию. По решению суда, всяким умственно отсталым. И сейчас справедливо идут обсуждения, что мать может убить своего ребенка, когда она его родила, если он, допустим, тяжело болен, но разве быть убийцей — это не болезнь?
— Я не понимаю.
— И в конце концов, — продолжала она, затягиваясь, невозмутимо, с лекторскими интонациями, — каждый ребенок убивает свою мать. Рано или поздно так происходит. Ведь это грустно обоим. Они действительно должны выплачивать компенсацию, так будет только справедливо. — Компенсацию за легкомыслие матери, которая знала, что рожает слабоумного или убийцу, а все-таки родила. Инвалиды имеют право на вознаграждение. Если мать была такая дура. А убийцы разве не имеют?