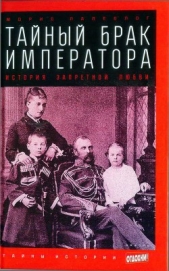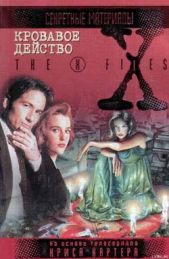Селинунт, или Покои императора
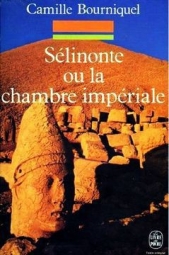
Селинунт, или Покои императора читать книгу онлайн
Кнульп, Рембо, а теперь Жеро - неприкаянный гений, скиталец, "проклятый поэт". В верхнем слое роман представляет из себя судьбу гения, который растрачивал свои таланты повсеместно, находясь в постоянном поиске своего истинного призвания. Это трагедия саморазрушения личности, постоянная тема произведений о неприкаянных художниках...
Селинунт удостоен в 1970 г. премии `Медичи`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все-таки это описание, как сказано в заглавии, и описание земной империи. Не является ли сия необычная, странная картина лишь обратной стороной реальности? Разве не является этот бесконечно изменчивый мир лишь проекцией хаоса, той изначальной клетки, что продолжает заключать в каждом из нас все возможное и утверждать свою целостность в каждой частичке Вселенной?
Из этого хаоса — как только его разглядели, описали, определили в неопределимом, облекли в слова, в образы, во взгляд — проступает необходимость. Потребность в человеке, который свершает свой путь и который, наделяя свой бред словами, появляется в центре всего описания.
Я охотно верю, что, перечитывая эти страницы, опубликованные без малейших изменений, ты испытал, помимо всего прочего, особую тревогу. Ты держал книгу в своих руках. Но какая связь между нею и тобой? Мог ли ты предъявить на нее права? Или она уже жила независимой жизнью, словно ребенок, которого ты не признал при его рождении?
Какой смысл придать приключению, которое вынудило тебя выступить в роли собственного свидетеля и, изменив смысл твоей жизни, преобразило постоянное отречение в точку опоры для творческого опыта? Разве подобное видение мира могло принадлежать человеку, который преуспел в своей жизни и никогда не допускал никаких отклонений от намеченной цели? Совершенно очевидно, что Атарассо, жизнь которого удалась как ничья иная, не стал бы заниматься изнурительным самокопанием. Атарассо никогда не нужно было искать себя; если бы он развил свою идею сам, то, скорее, в красочно-развлекательном и сказочном направлении. Ты же пошел другим путем, переходя от анекдота к шифрованному письму, от приключенческого рассказа к поэзии и фантастическим образам, словом, от Жюля Верна к Лотреамону.
Но ваша встреча от этого не менее необычна, и ты, наверное, сам заметил, в тот момент, когда был готов изгнать его из своей жизни, что ваши судьбы переплелись. В рукописи ты постоянно говоришь от первого лица, но осмелился ли бы ты утверждать, что это Я принадлежит лично тебе, что оно не взросло на другой почве, не было привито к другому дереву, между прошлым, которое ты частично у него позаимствовал, и настоящим, которое всегда от тебя ускользало?
Определенным образом, это Я — не ты, или это ты, но лишь в странной соотнесенности с судьбой Атарассо. Однако это Я вынудило тебя ненадолго осесть на берегу и выплыть из вечно уносившего тебя течения. Тебе потребовался этот вожатый, чтобы увидеть, которое же из многочисленных отражений тебя самого, в совокупности образующих контур личности, действующей только себе во вред и преследующей единственную цель — антитворение, принадлежит лично тебе.
Тебе потребовалась эта встреча и огромный сторожевой пес, уснувший перед входом в лабиринт, чтобы придать тебе мужества и любопытства проникнуть туда. Ты спустил пса с цепи, и с тех пор он стал твоим стражем, а тебе оставалось только следовать за ним. Он открывал тебе дороги, по которым ты никогда не посмел бы пойти. Глубокая тишина была вашим спутником на аллеях этого сада, уставленных статуями и сфинксами. Ты растворялся в приключении, которым не мог управлять. Ты становился тем другим, и твоя кровь текла в его жилах. Однако в тебя проникала его сила, его гений, его успех, его огромное знание, — в тебя, погрязшего в бессмыслице, притворстве, нелепом маскараде, тоске и нежелании признавать себя самого в любом своем жесте, в любом своем решении. И поскольку он никогда не менялся, не колебался в выборе своего пути, он не давал тебе увернуться от работы. Впервые она давалась тебе легко, под диктовку. Ты творил тем радостнее, что не чувствовал себя отцом своего творения. Твои богатства, взятые под залог головы другого, казались неисчерпаемыми. Тем временем ты становился собственным демиургом, еще не замечая, что связывает тебя с этим безрассудным творчеством. И наверное, ты был счастливым — счастливым, как никогда раньше. Более бездумным, казалось тебе, чем в любом из твоих предыдущих предприятий, родившихся из порочного чувства бесполезности и служивших стиранию твоей личности. Ты всегда видел в Андреасе Итало свою полную противоположность: у тебя было впечатление, что ты вычерчиваешь в его ладони свой пустой контур.
«Ты пепел, и я сгорю на этом костре…»
Я выхватываю эту фразу в начале любопытного отрывка о Матерях (космических, естественно!) — одного из тех, которым комментаторы обычно уделяют много внимания. Сандра, cendre (пепел)! Быть не может, чтобы такая игра слов родилась случайно! Пепел — именно это имя ты ей дал, и может быть, в первый же раз, когда держал ее в объятиях. Потому что пепел легкий, теплый и мягкий на ощупь, его уносит ветер, кружащий утром голубей вокруг колокольни, и потому что тебе оставался только неуловимый и истерзанный аромат, похожий на запах огня, тлевшего всю ночь на ложе из диких фиалок, а теперь окончательно угасшего под осенней изморосью.
Пускай с этими словами ты обращаешься к Земле, первичной материи (помнишь, у Лотреамона: «Приветствую тебя, о Старый Океан!»?), разве можно не заметить вещего знака за легким изменением звучания? Впрочем, все женские образы, встреченные на протяжении твоего внутреннего путешествия, по сути — одна и та же фигура, вещая и загадочная.
Я вижу ту же перемену в твоем отношении к этой личности, стремление увидеть в ней иные черты, нежели те, какими наделяли ее твой гнев и твоя досада в послеоперационный период возбуждения и бреда. За образом девушки, посмеявшейся над тобой, вставал другой: образ закутанной в покрывало женщины, подносящей к лицу светильник, зажатый в ладонях. Спутал ли ты ее с прозрачной фигурой вестницы, выступающей из темноты, на полотне какого-нибудь художника, мастера света, или с изображением из Виллы Таинств? [75]
Внешний облик менялся, открывая наряду с «хищницей» посредницу, рядом с Цирцеей, усыпившей твои защитные инстинкты, Сивиллу, «но более далекую», как ты говорил, «киммерийку, о какой обычно не помнят художники». Почти на каждой странице описания твоего сказочного зверинца, твоей прогулки по стране сновидений, встречается эта мифологическая терминология, чередование двух ликов, один из которых возбуждает твой гнев, а другой странно символичен. Как в текстах пророчеств, в которых тебе нравится смешивать знаки и символы, Сандра становилась «хозяйкой замка», «проводницей», таинственной «трактирщицей Сидури», той, что говорит герою Гильгамешу: [76] «Куда ты спешишь, Гильгамеш? Ты не найдешь жизни, за которой гонишься. Когда боги создали человечество, они даровали тебе смерть. Жизнь же оставили себе».
Под нагромождением былинных сюжетов постоянно проступает пережитая тобой история. Так, говоря о киммерийцах, «жителях Вечной Ночи», ты внезапно задаешь себе вопрос: «Не из их ли я племени?»
Несомненно, эта причудливая экспедиция вызвана некой тревогой, высвобожденной при необычных обстоятельствах вашей встречи через механизм говорения и видения. Передавая тебе эти записки, Сандра выбила тебя из наезженной колеи. Начав неожиданно видеть глазами другого, ты стал видеть то, чего тебе не было дано увидеть, слышать то, чего тебе не было дано услышать. Можно ли назвать это откровением? Голос, доносившийся к тебе с самого горизонта, был твоим голосом, таким, каким ты всегда его предчувствовал, на который безнадежно уповал. Более того, тебе были дарованы слова: те самые, которые всегда ускользали от тебя. Откровение?.. Гораздо больше: слово!
Да, я могу представить твое замешательство, когда ты увидел все это напечатанным и вспомнил те недели, когда, не утруждая себя сверх меры, ты был орудием медленного словесного богоявления, схватывал картины, а не выдумывал их, словно внезапное изменение освещения вдруг позволило тебе разглядеть пейзаж за запотевшим стеклом.
Хотя ты был разгневан на ту, которая сыграла с тобой такую шутку, ты не мог отрицать: благодаря ей ты познал радость, чистую, без примесей, — радость видеть, как на твоих глазах рождается из пены новая земля, под солнцем, которого не затмевал рой слов, в тишине, не оглушенной его гудением. Ни одно твое открытие не было более чудесным, более освобождающим. Возможно, следовало вспомнить детство — таким, каким оно снится поэтам — чтобы вновь обрести то чувство непосредственного, почти дикого слияния с реальностью, выраженной одним только желанием погрузиться в нее с головой и затеряться в ней.