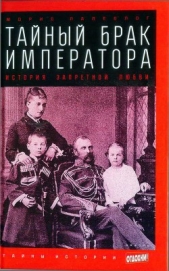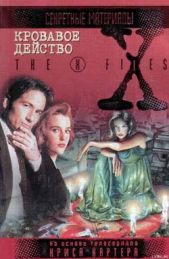Селинунт, или Покои императора
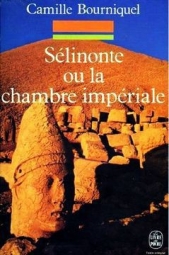
Селинунт, или Покои императора читать книгу онлайн
Кнульп, Рембо, а теперь Жеро - неприкаянный гений, скиталец, "проклятый поэт". В верхнем слое роман представляет из себя судьбу гения, который растрачивал свои таланты повсеместно, находясь в постоянном поиске своего истинного призвания. Это трагедия саморазрушения личности, постоянная тема произведений о неприкаянных художниках...
Селинунт удостоен в 1970 г. премии `Медичи`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но я обобщаю, опережаю развитие событий в твоем отдельном случае. В первый момент твоя реакция была такой же, как и у любого другого человека на твоем месте. Можно было подумать, будто это тебя опустили в гробницу на берегу Евфрата, а Атарассо отныне жил вместо тебя. Они лишили тебя твоего дыхания: ты дышал в груди другого. А этот другой, покинув земной мир, начал в нем новую карьеру, повсюду получая почести, которые никто и не подумал воздать тебе (впрочем, ты бы их не принял), но его приветствовали как учителя, освободителя, чудесным образом избежавшего гибели. Ах, тебя от этого трясло, ты не мог совладать со своим возбуждением, и, по правде говоря, было из-за чего взволноваться! Ты набросился на аннотацию; разом проглотил все выдержки из газетных статей, напечатанные на внутренней стороне суперобложки, судя по которым, книга сразу же после публикации получила единодушно и преувеличенно восторженный прием в Милане, Лондоне, Париже. Европа умеет быть щедрой к покойникам. Атарассо пользовался посмертной славой со всеобщего одобрения. Но ты, неужели ты наглухо отгородился от всего мира, схоронившись в Нью-Йорке, не читал никаких газет, ни разу не покидал Гринвич-Вилладж, превратившись в какого-то ремесленника, зажатого между своим верстаком и психоделической фантасмагорией!.. Америке, в свою очередь, оставалось только присоединиться к общему хору и впасть в транс. Твоим глазам открылся бушующий океан восторженных похвал, и каждый раз, когда на тебя накатывала очередная огромная волна, казалось, что тебя сейчас смоет с пирса. В несколько секунд все прояснилось. Ты во всех подробностях увидел свое приключение: аварию, случай, который почти силой ввел тебя в дом этого человека, твои ночи с Сандрой, — приключение, которое множество других событий, множество других встреч в эти четыре года практически стерли из твоей памяти. Вся картина вновь ожила, но в ином свете, в мертвенно-бледном сиянии молнии и рокоте грома. Непостижимейшая махинация! Дичайший грабеж! Все свершилось без твоего ведома. И тем легче, что ты не придавал никакого особого значения выпархивавшим из тебя словам, — разве что получал удовольствие от этого занятия — словам, которые, как тебе казалось, были не более достойны вечности, не более замечательны сами по себе, чем прочие, давние твои попытки творчества, не нашедшие отклика. Тот свой провал ты тогда похоронил, как и многие другие вещи, которым не было предназначено увидеть свет или принести плоды. Тебе было достаточно жить и приспосабливаться к обстоятельствам, стремясь лишь к непостоянству и переменчивости. По меньшей мере этот выбор ты сделал сам, и никто не имел права решать за тебя, принуждая поступать иначе, а тем более предъявив тебе доказательство того, что кое-что в тебе может быть непреходящим, доказательство того, что в один прекрасный момент ты нашел, распознал себя, разбазаривание же твоих дарований отнюдь не привело к твоей гибели, а лишь облекло собой одно мгновение.
Ах! Я дорого бы дал, чтобы оказаться там, в книжном магазине Рокфеллеровского центра, в тот момент, когда на тебя снизошло невероятное и парадоксальное откровение. Я дорого бы дал, чтобы последовать потом за тобой в той толпе, пока ты спускался по Пятой Авеню, натыкаясь на демонстрантов, шедших в обратном направлении, останавливаясь на каждом перекрестке, но не для того чтобы взобраться на столб и громко комментировать отрывок из Библии или Корана, стих «Упанишад» или «Бхагавад-Гиты» (тот, что ты так хорошо толкуешь в своей книге: «Людей, чей дух укрывается во мне, я выхватываю из океана перевоплощений и смерти»), а чтобы снова погрузиться в твое произведение, разрываясь между самыми противоречивыми чувствами: яростью от того, что тобою так цинично манипулировали, недовольством тем, что тебе организовали дебют против твоей воли, но и неким восхищением столь замечательно провернутой операцией. Внезапно ты разражался неуёмным смехом, подумав, как же над тобой насмеялись, — смехом, из-за которого тебя могли бы принять за сумасшедшего, если бы в Нью-Йорке не было правилом не обращать внимания на прохожих и никак не реагировать на чокнутых.
Тебе нужно было собраться с мыслями. Дощатая хижина на прибрежном островке, открытая всем ветрам, — Саттон, Нантуккет, — вот там ты бы мог укрыться, чтобы точно определить размеры ущерба и выработать свою позицию. Дойдя до 42-й улицы, ты, наверное, подумал, не лучше ли направиться к автовокзалу и сесть в первый попавшийся автобус. Возможно, у тебя не было с собой достаточно денег, и ты нырнул в метро, по пути продолжая столь же ненасытно перелистывать страницы.
Вернувшись в исходную точку, ты для начала выставил двух девиц, Бетси и Пенелопу, которые только что проснулись и заплетали себе косички. Ты хотел побыть один. Потребовал, чтобы тебя не беспокоили, что было самым несвоевременным требованием, учитывая те условия, в каких все вы жили. Ты, наверное, походил на птицу, которую бурей выбросило на мост. Твоя комната?.. Скорее, мастерская, дортуар, зал собраний, выставочная галерея, оклеенная постерами, восточными занавесками, акриловой пестротой, огромными рисунками и фотографиями: Магрит [66] и Лотрек, [67] Кецалькоатль [68] и Бэтмен, Мао и «Битлз»… Ты к этому руку не приложил. Никто и никогда не старался сохранять в большей неприкосновенности места, где ему доводилось жить. Никто не был более бесчувствен, чем ты, к такого рода визуальной агрессии, менее подвержен влиянию музыки, низкие колебания которой доносились до тебя днем и ночью вместе с запахами жареного и сандалового дерева из-под двери. Обе девицы, наверное, подумали, что ты собрался отчалить в небольшой «круиз», прогуляться к звездам. Обычно ты предоставлял это другим: скоростной спуск на дно Саргассова моря. Ты уже слишком долго путешествовал, прошел через множество маковых полей, побывал во множестве городов и базаров на Востоке и в Азии, так что теперь уже не открыл бы для себя ничего нового в этом плане, а их жалкие дозы и содержимое пакетиков напоминали тебе продукцию из аптечных киосков.
На самом деле ты отправлялся в совсем иную экспедицию. Ты просидел запершись до самого вечера, может быть, до самого утра, не чувствуя, как бежит время, не слыша других голосов, кроме своего собственного, но словно в плохой или слишком старой записи, создававшей представление только о непреодолимом расстоянии, похожей на воспоминание об иной жизни, принадлежавшей тебе теперь лишь частично. Порой, закрыв глаза, ты на память заканчивал фразу — без ошибки, без колебания. Но тебе случалось и наткнуться вдруг на незнакомое место, и твоему удивлению не было предела, когда тебе встречались вещи, которых ты не мог сказать, а ведь выразил, сформулировал. Ты, столь мало привязанный к своим мимолетным мыслям, словно нащупывал тогда странные окаменелости, в которых была заключена частичка тебя самого. Всё… они всё сохранили: незаконченные фразы, многоточия на месте слов, которые ты так и не смог подобрать, словно этот сумбур, нарушения ритма или смысла, колебания пера вырисовывали некую каллиграмму, некий кабалистический символ, отражающий смятение вдохновенного ума. Неужели такая незаконченность приветствовалась повсюду, будто она сохраняла свежесть этих текстов, их жизненный сок, а идеальная форма, которую ты до сих пор рассматривал как конечную цель, лишила бы их души и красоты?
…Но хуже всего, говорил ты, хуже всего было то, что началось потом. Это имя было у всех на устах. Атарассо! Атарассо! Невозможно выйти на улицу, заглянуть в кафетерий или в закусочную и не увидеть его лицо на экране телевизора, его фотографию на обложке журнала. Невозможно пройти мимо витрины самого захудалого книжного магазина и не увидеть какой-нибудь искусный коллаж, изображающий его среди развалин Суз, перед скалой Абу Симбеля или возле храма Пальмирских богов в Дура-Европосе. Эта книга продавалась даже у порнобукинистов. Я плыл в какой-то фантастической реальности, в открытом космосе, но не по своей орбите. Люди разъезжали в метро, в автобусе, в такси, слонялись по тротуарам Гринвича с моей чертовой книгой в руках. На скамейках в скверах, среди юных хиппи, дремавших под деревьями или водящих у себя под носом палочкой благовоний, всегда находился кто-нибудь, кто уткнулся бы носом в мои откровения и как будто даже с интересом. Я уверен, что завсегдатаи турецких бань на площади Святого Марка, вместо того чтобы пялиться друг на друга и перекидываться болтовней с лежанки на лежанку, во время релаксации пичкали друг друга моими вариациями на тему хеттских богов или смерти Траяна. Десять раз на дню люди спрашивали у меня, читал ли я знаменитый бестселлер и что я о нем думаю. Они говорили, что завидуют мне, ведь я могу прочитать его в оригинале, а не в переводе. В Гринвич-Вилладж у священной буддистской литературы появился мощный конкурент в лице Атарассо. Как я мог относиться с таким равнодушием к произведению, о котором все только и говорят? «Ты лишь начни читать… не оторвешься!» А я только и мечтал оторваться от него. Девицы, жившие вместе со мной, — Бетси, Пенелопа и хрупкая Вивека — стали самыми ярыми фанатками, забросив тантризм и изучение дао. Они чинно сидели за прилавками магазинчика на Бличер-стрит, на которых были разложены стеклянные бусы, с раскрытой книгой на коленях. Они не потеряли надежды переубедить меня, и когда в два-три часа ночи я наконец укладывался спать на свой матрас, под одеялом всегда оказывался экземпляр «Описания».