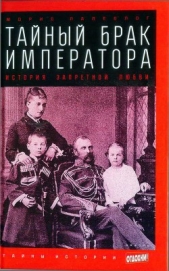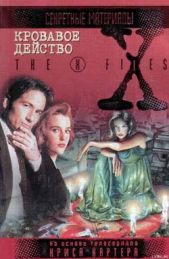Селинунт, или Покои императора
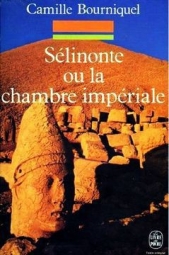
Селинунт, или Покои императора читать книгу онлайн
Кнульп, Рембо, а теперь Жеро - неприкаянный гений, скиталец, "проклятый поэт". В верхнем слое роман представляет из себя судьбу гения, который растрачивал свои таланты повсеместно, находясь в постоянном поиске своего истинного призвания. Это трагедия саморазрушения личности, постоянная тема произведений о неприкаянных художниках...
Селинунт удостоен в 1970 г. премии `Медичи`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потрясение подорвало и физические его силы, благодаря которым он так долго считался чемпионом во всех категориях, не подвластным мелким неприятностям. Я уже намекал на возможные проблемы со здоровьем, которые могли у него возникнуть до отъезда из Европы: разве он вернулся в Америку не в надежде обрести второе дыхание? Теперь он жил, словно в дурном сне: вокруг него не было ничего реального. Возможно, что эта усталость, потребность глотнуть свежего воздуха побудили его избегать Нью-Йорка. Однако доминантой оставалась его решимость продолжать борьбу и уйти из-под надзора, который, по его словам, за ним якобы установили в Ньюпорте.
…Они преследуют меня. Они знают, кто я, и не спускают с меня глаз. Когда я иду в ближайший продмаг, они идут за мной следом; они переходят из отдела в отдел, не теряя меня из виду, подходят к кассе, когда я забираю сдачу. По ночам я слышу их шаги в коридоре… Но им не заставить меня замолчать. Я уничтожу то, что не должно было существовать. Ложь исчезнет… Бесследно…
Поскольку он не считал себя «достаточно в безопасности» на побережье, то уехал в Нантукет и поселился там в бывшем пакгаузе, кое-как переделанном под летний домик. Тебя привлекла туда не красота этого живописного острова, который, из-за его формы, часто сравнивают со свиной отбивной, и не то, что еще напоминало о первом поселении квакеров или старом порте китобоев, а мощный прибой Атлантического океана, разбивающийся о прибрежные скалы, и шум волн по ночам, слышный сквозь тонкие стены.
Мне легко представить, как он гуляет по улицам, вымощенным галькой, покинутым последним туристом, останавливается перед благородными фасадами красивых домов бывших капитанов китобойных судов (так напоминающими своими коринфскими колоннами дом в Нэшвилле), а главное — как идет мимо лодок на причале и снова вдыхает там запах Европы. Весь остров превращался для него в мезонин, в балкон, во «вдовью площадку» на самом верху кровли, откуда встревоженные супруги раньше окидывали взглядом горизонт, высматривая на нем что-то.
…Я словно отделился от земли. Путешествие продолжалось. Я часами бродил по этим пляжам, иногда засыпал, укрывшись от ветра, полузарывшись в песок, и просыпался, только когда уже спускалась ночь — она быстро настает в это время года… Просыпался с потрескавшимися от соли губами, а в ушах шумело так же, как в ракушках, скользивших у меня между пальцев. Бакены, подвижные и неподвижные огни, сияли звездами в бескрайней дали, обрисовывая границы реальности между невидимыми точками — Санкати-Хед, Грейт-Пойнт…
Рыбак, сбившийся с пути перед рифами, не чувствовал бы себя более одиноко, увидев эти огни, танцующие над полосой опасностей…
Одиночество помогало ему обрести себя и определиться. Он не разрешил Вивеке приехать к нему в Ньюпорт, и теперь никто не знал, где он. Никакой другой паствы, кроме этих волн, никаких других следов, кроме тех, что ветер стирал позади него. Он больше не посылал писем в «Нью-Йоркер» или в Европу. Он понимал, что эта история ударила его как обухом по голове, что он вел себя наивно, по-дурацки, и что надо было действовать иначе; но ему еще только предстояло найти себе оружие.
Однажды вечером он достал из сумки книгу и в очередной раз, на свежую голову, принялся внимательно ее перечитывать.
…Это показалось мне чересчур сложным, да что там, вычурным, замысловатым, раздутым, надуманным… неестественным. Чтение давалось мне с трудом. Если бы я написал другие книги, то не эту посоветовал бы прочитать. И откуда сей пророческий тон?.. Все казалось мне гораздо проще. А главное, мне казалось, что человек, который это написал, остановился на полпути… словно его прервали… Я не дошел до конца. В общем, я бросил книгу в огонь и смотрел, как она горит… Так моя мать смотрела из окна на горящую мастерскую, на более тридцати лет живописи, не спускаясь вниз, не пытаясь спасти ни одного рисунка… «Вечно мы берем с собой слишком много вещей»! Она всегда говорила это перед тем, как, поняв, что ей ни в жизнь не упаковать чемоданы, принималась все раздаривать, раздавать, предпочитая, как она говорила себе в оправдание, уехать налегке… Ей это удалось, когда она умерла. От нее не осталось ничего — сын, продолжавший колесить по свету, еще двое, с которыми она поссорилась и которые не потрудились приехать… Ничего, кроме разве взгляда, который Гаст не мог оторвать от поросшего травой холмика на ее могилке…
Какое впечатление осталось у Жеро от перечитанной книги?
…Перегруженный корабль, который тянет ко дну. Нужны опытные подводники, чтобы содрать что-нибудь с его бортов… Пусть других это устраивает или восхищает, дает им смысл жизни… От такой пищи у него тяжесть в желудке. Нужно было все переделать. Но такую книгу нельзя переписать, как нельзя прожить свою жизнь заново. Другую — может быть; можно написать другую книгу.
…Погода испортилась совершенно. Нужно было что-то делать. Нельзя с утра до ночи бродить под дождем и ветром или подбирать выброшенные на берег предметы. И потом, это само шло ко мне. Я уже придумал заглавие: «Незапамятное». Даже если не касаться всего того, что я напихал в предыдущую книгу, мне еще много оставалось сказать. Я выбросил за борт всю эту чертову мифологию с символами, всех этих гадалок, волхвов и пифий с треножниками. Я не собирался восстанавливать Вавилонскую башню или Критский лабиринт; я принимал все таким, как есть, не ставя ничего с ног на голову… Только настоящее время. Жизненное кредо, подальше от всяких богов и предсказаний. Картина сего момента. Я писал, и у меня было впечатление, будто лист под моим пером остается белым. То было чистым и свежим, как плод на ветке, нежным на ощупь, как лицо спящего ребенка. Честное и здоровое занятие. Что еще сказать? Я не задавал себе вопросов. Я сам был себе компанией. В конце концов, я, наверное, нашел себя, но вдали от всех моих давних наваждений, вдали от всех пророчеств, которые якобы важны… Мне было спокойно в этом пакгаузе, рядом с морем, пенящимся у скал. Вся эта суета, приезды, отъезды — что она мне дала? Покой перед лицом бушующего океана позволял разложить все по полочкам. Я вспоминал, что был счастлив порой в четырех стенах… Эти комнаты никогда не казались мне достаточно пустыми, достаточно голыми.
И все же каждая отличалась от другой, была особенным местом, даже если в моих воспоминаниях их не к чему было привязать… Какой будет последняя?..
Жеро узнает об этом позже, но ему было еще далеко до окончательного отрешения; бегство к несуществованию было еще только миражом, сменившим собой многие другие… Человек, который говорит, что наконец нашел себя, достаточно показывает: он не отступился и по-прежнему настроен добиться признания того, кто он есть. А если писатель избегает среды, где, как ему кажется, он теряет время и свою сущность, он лишь повинуется защитному инстинкту и ищет более удобное место для работы. Нантукет для Жеро был таким местом. Не столько остров, сколько мыс, открытый морским ветрам, где, вместе с запахами старой Европы, долетавшими через океан, к нему возвращался все столь же стойкий соблазн. Белый кит продолжал его дразнить, и он будет гоняться за ним до самых южных морей. Удовольствие, которое он себе доставлял, ничем не разнилось с тем, что было ему явлено — в некотором смысле даровано случаем — пятью годами раньше. Можно лишь удивляться, как он не заметил, что эта книга, которая должна была стать незапамятной, шла вслед за той, другой, и в некотором роде завершала и венчала ее собой. Можно удивляться, как он не вспомнил, что образ пустой комнаты уже стал одной из тем предыдущей книги.
Есть одно доказательство тому, что он, хотя бы интуитивно, сознавал это единство: он не уничтожил постепенно того, что писал, а такой поступок имел бы совсем иное значение, нежели сжигание экземпляра книги, с которой уже ничего не поделать. Он не уничтожил «Незапамятное», начал редактировать текст, потом, откопав где-то старый «Ремингтон», принялся печатать, как любой автор, уверенный в своем произведении.
Эта странная уверенность исходила не столько от него самого (от той тревоги, которая ранее всегда останавливала его руку на середине страницы), сколько, как ни парадоксально это звучит, от необычайного успеха книги, опубликованной под именем Атарассо. «Незапамятное» в тот момент представляло собой для Жеро высочайшую и неопровержимую истину, противопоставленную лжи, обману, бесстыднейшей фальсификации за всю историю литературы, но эта истина, надо признать, могла родиться в нем, обрести силу и выражение только на почве лжи, как если бы контраст двух этих терминов пропадал при их слиянии в одном и, в конечном счете, незначительном происшествии.