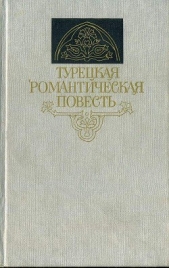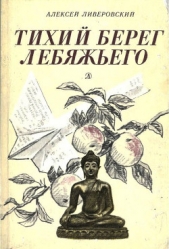Джемо

Джемо читать книгу онлайн
Повесть «Джемо» Кемаля Бильбашара является первым в турецкой литературе крупным произведением о жизни курдов. Позиция писателя совершенно лишена национальной и религиозной нетерпимости. Она проникнута глубоким уважением и сочувствием к простым труженикам-курдам. Прогрессивный турецкий художник создал подлинную эпопею жизни многострадального курдского народа, насыщенную романтикой и трагизмом. Писатель-реалист воссоздает своеобразие уклада жизни, общественных отношений, обычаев, верований курдских племен в первую половину XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Остановился Джемшидо, кулаком слезы по щеке размазывает. Я думал, закричу, из горла один хрип вырвался:
— Умерла?!
Джемшидо на меня руками замахал.
— Жива, клянусь, жива! В больнице лежит. Там ей живот распороли и зашили. Джано говорил, на неделе вернется. Уж он плакал-рыдал, что дитя малое. Нету у нее теперь утехи, говорит…
Ой, джигит-Джемо, ой страдалица! Слезы из моих глаз так и хлынули. Джемшидо растерялся. Стоит, по спине меня оглаживает.
Взял я себя в руки.
— А где Джано? — спрашиваю.
— В тюрьме. Секретарь велел всех посадить, кто в живых остался. Один я вырвался, в горы подался.
— В чем их обвинили?
Покачал он головой.
— Джано, как вернулся, стал месть замышлять, и мы все вкруг него держались. Положили налет сделать на дом Сорика-оглу. Ночью через гору Зозана по ручью пробрались. На подходе к дому в засаду попали. Люди Сорика-оглу зажали нас в ущелье. Джаферо и Хайдаро первыми шли. Первые пули им достались. Рухнули они как подкошенные, криком закричали. А нам их не подобрать, пули свищут. Слышим — Джаферо нас кличет: «Пристрелите нас, не бросайте врагу на поруганье». Дядя Вело высунулся из-за скалы, просьбу его последнюю исполнил. Но и сам сразу две пули заработал. Джано его себе на спину взвалил. Стали мы отступать. Как стихла за нами пальба, Джано уложил Вело на земле, разодрал свой кафтан, раны перевязал. От плечевой раны у Вело рука онемела, из паха кровь — ручьем. У Джано губы затряслись, а Вело его успокаивает: «Раз кровь побежала, ее уж не остановить. Зачем хлопочешь?» Джано ему: «Сердце мое разрывается, что ты из-за меня смерть принимаешь, Я этого себе не прощу». — «Не твоя в том вина. Ты позабудь, что я говорил. Это все с горя безысходного. Чему быть, того не миновать». — «Мы тебя в больницу отвезем, где моя дочь лежит. Доктора тебя на ноги подымут». — «Не трогай меня. Мне туда живым не добраться». Джано его слушать не стал, взвалил себе на спину и потащил. Всю ночь напролет тащил, не охнул. Свет забрезжил, и видим мы: у Вело в лице ни кровинки, глаза застекленели, а у Джано весь кафтан кровью залит. Остановили мы Джано. Припал он к мертвому телу, до утренних птиц его оплакивал. С первыми птицами увидали мы: жандармы нас в кольцо забирают. Сговорились не сдаваться, пока тело Вело земле не предадим. Закопали его, потом сдались. Жандармы нам руки веревками связали, в город погнали, к секретарю привели. Он нас давай бить, давай обзывать! После двоим жандармам велел нас в тюрьму засадить. Ведут нас по лестнице, я вижу: в двери щель. Шмыг в нее, да и был таков. Жандармы догонять не стали, чтоб остальных не упустить. Только в воздух пальнули раз, да и все. Теперь я по горам брожу, Сорика-оглу выслеживаю.
— А что же с сестрицами сталось? Одни они?
— Не знаю. Прибежал я из тюрьмы — во всей деревне ни души. Землянки пустые. Видать, Сорик-оглу женщин с детьми к себе угнал…
Я и Джемшидо поведал, что со мной было. Как узнал он, что я беком стал, давай меня заклинать:
— Отомсти за нас! Коли не отомстишь этому зверю, дух наших братьев убитых тебе покою не даст, они тебе ночью глаза повыцарапают.
Только ни к чему мне были его уговоры. Огонь мести уже бушевал в моем сердце, из груди наружу рвался.
— Сперва поеду к Джемо, возьму ее из больницы, — говорю. — Переправлю в укромное место. А после с этой собакой разочтемся. Он наших братьев в темницу заткнул, теперь разгуливает без опаски. Тут мы его и прихлопнем.
— Прихлопнем, брат! Только смотри, в городе открыто не показывайся. У него везде лазутчики, мигом донесут. И в тюрьму не заглядывай, а то и тебя туда упрячут.
Сговорились мы с ним на заброшенной мельнице свидеться.
Пришпорил я коня, в город поскакал. Приезжаю — одного человека из своих в больницу послал, другого в тюрьму. Воротился человек из больницы, рассказывает: Джемо поправилась, два дня назад жандармы ее к секретарю каймакама отвели. Другой приходит: не пустили его в тюрьму. Говорят, подавай бумагу от каймакама, тогда пустим.
Так ни с чем и повернули мы назад. На сердце мне камень лег. С чего это Джемо к каймакаму направили? Теперь в тюрьму бросят, как бунтовщицу, или Сорику-оглу отдадут, как других? Погнал в касаба [52]. Скачу во весь опор — ветер в ушах свищет. Люди мои еле поспевают за мной. Под вечер мы были уже в уезде. Спешились, не доезжая касаба. Людей своих я при лошадях оставил. Одного половчее с собой забрал. Подбираемся с ним к уездному правлению, жандарм дверь на замок запирает. Укрылся я в темном углу, чтоб он меня не приметил, а человека своего послал про секретаря спросить. Заслышал жандарм шаги, вздрогнул.
— Чего тебе?
— Секретаря каймакама повидать надобно.
— Нету его, на Зозану уехал.
— Когда воротится?
Осклабился жандарм, усы подкрутил.
— А кто его знает! Когда ему ракы да женщины наскучат, тогда и воротится. К одному знатному аге кутить отправился, с ними девка, в самых летах. Теперь, считай, дня три, а то и все пять прогуляют. Оно и на руку нашему брату, передохнем от пустобреха. Целыми днями лается, глотку дерет, клянусь аллахом! Кому не опостылеет такая жизнь!..
Я чуть не задохнулся от ярости. Моя Джемо, джигит-Джемо на пьяной пирушке этих шакалов услаждает! Ну, погоди же, Сорик-оглу! Погоди и ты, бумажная крыса! Попадетесь вы мне в руки!
Вскочили на коней, одним махом до Зозаны долетели. Молния и та бы нас не обогнала. Джемшидо уж нас на мельнице поджидает.
— Везет нам нынче, Мемо, — говорит, сам смеется во весь рот. — Я чабана Сорика-оглу прихватил.
Вошли внутрь. К опорному столбу человек привязан. Чиркнул я спичкой, лицо его осветил — не из наших.
— Слушай, брат, — говорю. — Коли службу нам сослужишь, отпустим тебя живого, в придачу денег и скотины дадим. А заупрямишься — пеняй на себя, отправим прямиком на тот свет, по одной дорожке с твоим агой. Ну, будешь мне отвечать?
— Буду.
— Где Сорик-оглу, знаешь?
— Знаю, он велел мне принести ему молока, сыру, сливок и молодого барашка. Я к нему ходил.
— Где он?
— На летовке.
Схватил я его за плечи, давай трясти.
— Задумаешь нас морочить — смотри у меня!
— Не-е, зачем морочить! Как пирушка у аги с именитыми гостями, так он на яйлу подымается, от своих жен подале.
— Ладно. Сколько там человек в дозоре? Сколько собак?
— Когда ага пирует, людей своих в оба отсылает, жен да детей сторожить. Наверху с ним от силы человека четыре будет. Однако собак лютых не счесть.
— Собаки тебя признают? Пойдут за тобой, если покличешь?
— Пойдут.
Погремел я золотом в поясе.
— Теперь слушай, коли собак к ручью заманишь и всех перетопишь, а после нас в дом проведешь, это золотишко все твое будет.
Чирк спичкой и к глазам его золото подношу. Запылало оно перед ним желтым пламенем, и в глазах его огонек разгорелся.
— Ты чей, ага? — спрашивает.
— А тебе зачем?
— Да затем, что за душегубство ответ держать будем. Достанет у тебя силы раба оборонить?
— Я из Дерсима.
— Тогда страшиться нечего. До Дерсима ни одна рука не дотянется. Твой я с потрохами.
Заставил я его поклясться мне в верности двенадцатью имамами, отвязал от столба, отправились мы с ним на летовку.
Гляжу — чабан свое дело знает. Козьими тропами нас повел, глухими ущельями, с подветренной стороны, чтоб собаки наш запах не расчуяли.
Засветились наверху огни дома. Чабан говорит:
— Я пойду собак заманю, а вы тут обождите.
Джемшидо ему руку на плечо положил.
— Смотри же, брат. От клятвы не отступись!
— Как отступиться, бабо! Кто великую клятву преступит, того Хызыр в камень оборотит!
— Вперед Хызыра мы из тебя кишки выпустим, заруби на носу!
Сунул чабан под мышку два круглых хлеба для собак и в темноту канул.
Делать нечего, стали мы ждать. Сказать легко, а ждать каково! Джемо рядом муки принимает, я — стой, жди. А чабан словно как провалился. Все нет его и нет. Ночь морозная стоит. Звезды свечами в небе запылали. От них светло кругом, как днем.