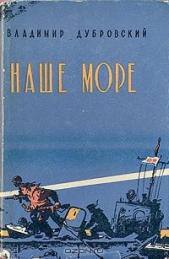Монументальная пропаганда

Монументальная пропаганда читать книгу онлайн
Новые времена и новые люди, разъезжающие на «Мерседесах», – со всем этим сталкиваются обитатели города Долгова, хорошо знакомого читателю по роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
Анекдоты о новых и старых русских невероятно смешны. Но даже они меркнут перед живой фантазией и остроумием Войновича в «Монументальной пропаганде».
Вчерашние реалии сегодняшнему читателю кажутся фантастическим вымыслом, тем более смешным, чем более невероятным.
А ведь это было, было…
В 2001 году роман был удостоен Госпремии России по литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Прогнали, прогнали Лысого. Коленом под жопу. Как собаку, прогнали. – Она прыгала, дразнила невидимого своего врага, кривила губы и высовывала язык, приговаривая: – Наш любимый… дорогой… дорогой очень… драгоценный… кукурузник, совнархозник, навозник…
А вечером к ней явился без спроса и зова Диваныч. В парадной полковничьей форме, немного подчищенной, подштопанной (и все пуговицы на месте), сверкая металлом зубов, орденов и медалей. Пришел не с пустыми руками – с алой гвоздикой и двумя бутылками молдавского коньяка по четыре рубля двенадцать копеек.
– Позвольте мне, Агластепна, – сказал Диваныч с неожиданной для него церемонностью, – по случаю знаменательного события расцеловать вас по-братски и, как грится, по-фронтовому.
И после такого предисловия он поцеловал Аглаю в левую щеку и в правую, а потом, как вампир, впился в губы и даже попытался употребить язык в качестве физического намека, но она его оттолкнула довольно резко.
– Ты что? – спросила она сердито.
– А что, нельзя? – простодушно спросил Кашляев.
– Незачем, – сказала она. – Я пенсионерка, меня на базаре уже бабушкой зовут.
– А я дедушка, – сказал Диваныч. – Мне дочка внучку нагуляла.
– Тем более, – сказала Аглая. – Дедушка, а руки распускаешь.
– В умеренных пределах, – сказал Диваныч. – Я человек военный. Если грят можно, я, грубо гря, продвигаюсь вперед, если грят нужно, поднимаюсь в атаку, а если нельзя, отступаю, но никогда не сдаюсь.
Все-таки ей было лестно. После Шалейко за ней никто не ухаживал.
По случаю праздника, который Аглая пожелала отметить «вместе с Ним», она накрыла скатертью стол в «Его» комнате. Первую рюмку за него и выпили. Он светился неуловимо и благодушно.
– Я себя чувствую, как 9 мая 45-го, – сказала Аглая.
– А я, признаться, уже не верил, что такое сбудется.
– И напрасно не верил, – сказала Аглая. – Сталин учил нас, что веру терять нельзя никогда. Помнишь его притчу об этих… которые… ну, на лодке. Буря, одни испугались, ручки сложили, и всё, их волной накрыло, и – прощай, мама. А другие не сдаются, гребут, гребут, – она стала раскачиваться на стуле, изображая нечто подобное гребле, – гребут навстречу волне и ветру, не теряют уверенности и… Слушай, – перебила сама себя, – а как ты думаешь, что теперь с Лысым сделают?
– Посадят, я думаю, – сказал Диваныч, откусывая у шпрота головку.
– А я думаю, расстреляют, – мечтательно сказала Аглая.
– Ну нет, – возразил управдом, – сейчас не те времена. Сейчас все-таки восстановление ленинских норм и социалистической законности.
– Да что ты, полковник, ты что? Какая социалистическая законность? Вот когда Лысого расстреляют, тогда и будет социалистическая. А то, что у них было, гниль одна, а не законность. До чего страну довели. Вон этот, – кивнула в сторону стены, за которой жил Шубкин, – пишет, что хочет. О лагерях пишет. Сейчас все пишут о лагерях. Как будто других тем нет. Всех распустили. Люди иностранное радио слушают, антисоветские анекдоты рассказывают, партийные люди детей в церквах крестят и никого не боятся. Нет, я бы Лысого на Красной площади перед всем народом… И не расстреляла бы, а повесила.
– Ну, весь народ на Красной не поместится, – заметил Диваныч. – Хотя набегут в достатке и еще друг дружку потопчут. Но на площади все не поместятся.
– А тем, кто не поместится, по телевизору показать во всех подробностях. Видел, как это выглядит?
– Не, – сказал Кашляев, – Бог, грубо гря, миловал. Много чего видел, а такого нет.
Он добавил коньяку себе и ей, положил на хлеб два кружка колбасы.
– Ну и зря. Мы, когда отбили Долгов у немцев, там на площади перед райкомом повесили городского голову, начальника полиции и проститутку за то, что спала с немцами. Так, поверишь, проститутка держалась до конца и партизану, который вешал, в морду плюнула. Городской голова трясся от страха и крестился, но ни о чем не просил. А полицай, даже вспомнить противно, ползал на коленях, простите, говорит, пощадите. А я говорю: а ты, гад, щадил наших ребят? И вот когда эту троицу вешали, некоторые слабонервные в обморок падали, а я смотрела.
– Интересно было? – осторожно спросил Диваныч.
– Очень! Знаешь, когда человека вешают, он сначала весь задрожит, задрожит, ну в конвульсиях вроде, а потом глаза выпучит, язык весь наружу и…
– Ой, ой, ой, не надо, не надо! – заткнул уши управдом.
– Почему же не надо? – удивилась Аглая. – Ты же военный человек. Фронтовик.
– Фронтовик, – подтвердил гордо Кашляев. – Всю войну, грубо гря, от Бреста до этого и обратно. Но я, Агластепна, извиняюсь чистосердечно, хотя фронтовик, я в жизни еще никого… ну не… ну не повесил, вот. – Вид у него был при этом печальный и виноватый, как будто сам понимал всю меру своей очевидной неполноценности.
– Потому что ты в регулярных частях служил, а я в партизанах. А в партизанах ты и командир, и мать, и отец, и военный трибунал. Мы сами ловили, сами приговаривали, сами приводили в исполнение. – Она отхлебнула из рюмки, закусила кружком колбасы. – Думаешь, легко было? Думаешь, я не человек?
– Что вы, Агластепна! – перепугался Диваныч. – Ну вы-то, ну что вы! Несмотря что вы человек дамского, грубо гря, рода, я полагаю, всем нам у вас надо учиться высоким партийным качествам и отваге.
– Вот и учись, – сказала Аглая. – Я женщина, мать, у меня сын по дипломатической линии… Но когда передо мной враг, я к нему никакой, петлю на шею…
– Агластепна, милая, – замахал руками полковник, – хватит! Не надо, меня стошнит.
– Черт с тобой, – махнула рукой Аглая. Ей уже в голову ударило, и пришло благодушное настроение. – Не хочешь слушать, давай споем что-нибудь.
– Это другое дело, – сказал управдом. Он приосанился, одернул пиджак, дотронулся до своего кадыка, покашлял и начал вполголоса: – «Дан приказ ему на запад…» – но был остановлен.
– Зачем это старье? – сказала Аглая. – Давай лучше это. – И – с широким и плавным взмахом правой руки слева направо и вверх – затянула хриплым прокуренным голосом:
Левой рукой она дала Кашляеву знак подключиться, и тот, снова откашлявшись, подхватил:
– Ста-лин – на-ша сла-ва боева-я…
– Сталин – нашей юности полет, – перекричала она.
– С песнями борясь и побеждая, – их голоса слились в один, – наш народ за Сталиным идет.
Тоже, наверное, нынешнему читателю трудно представить, что в те времена такие песни люди пели не на сцене и не в строю, а для себя лично и находили в том удовольствие.
В двенадцать ночи в дверь постучали. Аглая открыла. На пороге стояла Ида Самойловна Бауман в застиранном фланелевом халате, с папильотками из газетной бумаги в непросохших еще волосах.
– Извините за беспокойство, – сказала она, – но вы не могли бы чуть потише? У меня мама нездорова и никак не может заснуть.
– Захочет – заснет, – сказала Аглая. – Мы на фронте под артиллерийским огнем спали и под бомбежкой.
И захлопнула дверь.
– Кто там был? – спросил Диваныч.
– Никто, – сказала Аглая. – Давай вот эту. – И начала, раскачиваясь из стороны в сторону:
От края до края, по горным вершинам…
В дверь опять постучали. Аглая думала, что снова пришла соседка, недовольно открыла и увидела перед собой Георгия Жукова с аккордеоном на шее и двумя бутылками водки в руках.
– Ты что? – спросила она удивленно.
– А вы чего празднуете? – спросил он.
– А тебе не все равно?
– Мне все равно, но у меня тоже повод есть. Сын родился, а выпить не с кем. Четыре с половиной кило. Вот такой! – Он развел руки с бутылками, показывая приблизительный рост своего потомка, и потом, чем больше пил, тем шире раздвигал руки, как рыбак, изображающий пойманного сома.