Новый Мир ( № 4 2007)
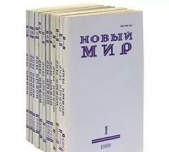
Новый Мир ( № 4 2007) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Очевидно, что в первом случае Ильин описывает “облагораживание” республики, ее подъем, развитие до монархии, пусть не вполне осуществленное, то есть описывает явления со знаком плюс. Во втором — явления со знаком минус, причем большей частью это одни и те же исторические явления и сюжеты. Почему же в первом случае он не упомянул при иллюстрации своей мысли того же Пилсудского (чем не Бонапарт польского разлива?) или Гитлера, культ которого вместе с “олицетворением” в нем “германского духа” он мог наблюдать воочию? Наконец, мы не случайно продолжили первую цитату до упоминания о Московском Кремле. Говоря, и с явной симпатией, о Джордже Вашингтоне, русский философ по случайной ассоциации переносится мыслью в далекую Москву, к стенам древнего Кремля, но… в упор не видит хозяина этих стен в те годы: Ильин совершенно обходит вниманием фигуру Сталина. В своей работе он его ни разу не упоминает, хотя упоминает и Ленина, и Свердлова, и других революционеров. Уж таким “олицетворением” и “сниманием шляп”, каким пользовался Сталин, располагал мало кто из кесарей мира сего… Понятно, что, симпатизируя Вашингтону или Бонапарту, Ильин не любил Пилсудского как врага монархической России и левого террориста, а уж большевиков он просто ненавидел лютой ненавистью. Но Ильин явно игнорирует возникшую тень противоречия в его диалектических построениях, основанных большей частью именно на четких категориях (гегельянская школа!). На самом деле Сталин, казалось бы, является лучшей иллюстрацией к мысли Ильина об эволюции республики к монархии, а также тезиса о неискоренимой традиции единовластия в России, о котором мы говорили в самом начале. Сталин для миллионов олицетворял великую идею, державное величие Родины, он персонифицировал государство в себе, наконец, и такая важная для Ильина сторона монархии, как эстетическая, здесь тоже представлена в виде “большого стиля”, “сталинского ампира”, кинематографического культа сверхчеловека. Собственно, когда говорят о российской “привычке” подчиняться “царям”, персонифицировать власть, то где-то подспудно в большинстве случаев подразумевается именно Сталин, сталинская эпоха. Действительно, и отечественные, и иностранные авторы комментируют феномен сталинского правления и культа личности Сталина именно в терминах византийской автократии. Стало общим местом — как troika, vodka, samovar, — что Сталин — не кто иной, как “красный царь”, который восседал в древнем Кремле и изощренно плел там свои византийские комбинации против возможных заговоров. Однако Ильин, повторим, даже не замечает этого вызова всей своей теории высокой монархии как олицетворения, пафоса доверия первому лицу, пафоса дисциплины . Пусть в результате образуется трещина в его очень стройной и прозрачной системе, но дойти до такой мерзости, как видеть в Сталине нового царя, а в Совдепии — величие России (как это сделали сменовеховцы и их наследники в русском зарубежье), он не мог. Был ли Ильин здесь пристрастен, необъективен, непоследователен, иными словами, пренебрегал ли он интеллектуальной честностью? Это, в общем-то, проблема только для исследователей творчества Ивана Александровича Ильина. Для России же остается интересной проблема самоанализа “монархических” наклонностей: вопрос подлинной или мнимой “исконности” — и соблазнов, связанных с этой “исконностью”.
3
В девятом томе “Истории России с древнейших времен” Сергей Соловьев описывает окончание Смутного времени и восшествие на престол основателя царствующей в его время династии — Михаила Федоровича Романова. Сам историк принадлежал к культуре XIX века, но, опираясь на источники описываемой им эпохи, применял как можно более “мелкую” оптику, детально воспроизводя второстепенные обстоятельства и прихотливую риторику XVII столетия.
Для русского национального самосознания преодоление Смутного времени — один из ключевых историко-эпических сюжетов, особенно для эпохи романтизма. В связи с восшествием на престол Михаила Романова достигает кульминации романтическая тема жертвенности во имя Отечества (Минин и Пожарский, Иван Сусанин), тема народного (земского) единства и тема исторического прогресса нации, которая именно с этого момента начинает свое триумфальное шествие в истории. Весь период династии Романовых Михаилу отводилась почетная роль символа преодоления всенародной беды. Не случайно в 1913 году Николай II повторяет путь Михаила из Костромы в Москву.
Однако очень поражает у Соловьева, в его формально нейтральном и скрупулезном описании, фигура самого Михаила, впрочем, довольно узнаваемая во всех исторических повествованиях. Дело в данном случае не в том, каков был Михаил Федорович Романов на самом деле и каковы были силы, божественные и земные, которые его привели к венцу, а в том, какой монархический миф о первом царственном Романове пережил саму Московскую Русь и стойко держался до самого конца русской монархии. Это не столько проблема реального исторического характера, сколько проблема типологии мифа, самой ситуации восстановления монархического порядка. Михаил не просто юн, кроток и невинен, что контрастирует со свирепством Смутного времени, он откровенно слаб, немощен и инфантилен. Перед нами разыгрывается, порой на грани гротеска, драма взаимоотношений земли (земства, народа) и будущего царя — уникальная историческая ситуация, возможная не во всяком междуцарствии, — когда многое обнажается в сути монархизма, по крайней мере русского монархического сознания — сознания, общего московской и петербургской эпохам.
Мы видим, как представители Земского собора идут с крестным ходом в Ипатьевский монастырь, Михаил с матерью встречает их и, узнав, зачем те пришли, отвечает “с великим гневом и плачем, что он государем быть не хочет, а мать его Марфа прибавила, что она не благословляет сына на царство”. Оба они не хотели войти в соборную церковь вместе с крестным ходом. Сначала послы уговаривают их все-таки войти в церковь, затем возвращаются к разговору о царстве — и опять отказ, опять уговоры, ссылки на сиротство народа, на Божий промысел, коленопреклонения, слезы… Возможно, верить этой церемонности скорее, впрочем, этикетно-ритуальной, чем расчетливой, вполне нельзя, по крайней мере со стороны Марфы — а точнее, нельзя вполне верить источнику, следующему определенным сюжетным и риторическим моделям. Но это и не важно. Важно то, каким запечатлен в этом источнике сам Михаил — он постоянно плачет и, кажется, совершенно искренне паникует. Борис Годунов, конечно, тоже отнекивался (даже если он не был убийцей царевича, властвовать он умел и хотел ), да чего там говорить — Иван Грозный тоже ломался и хлопал дверьми. Но Михаил Романов, похоже, не ломается, он не ссылается, согласно речевому этикету того времени, на свое недостоинство или на осознание бремени венца, его святости, но это именно откровенный страх, истерика и паника. Вместо него, во-первых, говорит его мать, во-вторых, мотивы отказа ее далеки от идеализма, если не сказать — по-бабьи малодушны: “Видя такие прежним государям крестопреступления, позор, убийства и поругания, как быть на Московском государстве и прирожденному государю государем? Да и потому еще нельзя: Московское государство от польских и литовских людей и непостоянством русских людей разорилось до конца, прежние сокровища царские, из давних лет собранные, литовские люди вывезли; дворцовые села, черные волости, пригородки и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским и всяким служилым людям и запустошены, а служилые люди бедны, и кому повелит Бог быть царем, то чем ему служилых людей жаловать, свои государевы обиходы полнить и против своих недругов стоять?”4 Словом, “Михаил и Марфа говорили, что быть ему на государстве, а ей благословить его на государство только на гибель <…>”5
Очевидно, что в этой сцене Михаил Романов, корень царей и императоров великой державы с мессианским предназначением, отнюдь не похож на исторического героя, спасающего народ и царство от раздора, бедствий и иноземного ига. Михаил перекладывает ответственность на мать и отца, капризничает даже после своего согласия на венец: не те-де хоромы, казна пуста — поведение, наверное, естественное для еще почти что отрока, но не очень подобающее самодержцу, государю… При том, что историография Смутного времени подверглась цензуре, а в XIX веке — довольно сильной романтизации, образ Михаила остался именно таким — хрупкий инфантильный юноша, который чуть ли не прячется за юбку матери, бегает от великого предназначения и как почтительный сын делит власть со своим отцом — патриархом, так же, как и он, носящим титул Великого Государя (единственный случай в истории московского патриаршества). Фигура Михаила Федоровича Романова, как уже было сказано, — рафинированная и идеализированная и в “византийском”, и в романтическом ключе, однако и в этом, каноническом, эпическом, образе инфантильность, слабость и субъективная случайность Михаила не только не скрыты, но почти подчеркнуты, возведены в эпико-драматический образ — а значит, и рассматривать ее можно как не противоречащую “канону”. Можно было бы возразить, что это поведение вполне благополучно укладывается в мифологический сюжет становления личности, перехода от безвестности — к славе, от слабости — к силе, от незрелости — к мужеству, но это было бы так, если хотя бы мифология уже самого царствования Михаила с этим действительно бы контрастировала. Но подвигов после лежания на печи, как у Ильи Муромца или сказочного Емели, так и не последовало, и царствование Михаила Федоровича лишь послужило прологом к ярким эпохам Алексея Михайловича и Петра Алексеевича.

























