Месторождение ветра
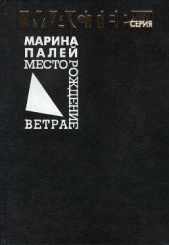
Месторождение ветра читать книгу онлайн
Проза Марины Палей не поддается расчленению на внутреннее и внешнее, на сюжет и стиль. Суверенный мир, созданный этим писателем, существует благодаря виртуозному стилю и обусловлен разнообразием интонации. Огромный дар свободы не может ограничить себя одним героем, одной темой или одной страной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но я чувствую, что она — на месте, и душа моя спокойна. И это ощущение, что она на месте — тот покой, который дарит это чувство, может быть, есть главное доказательство того, что рай существует.
Слава Богу, недалеко живет Евгения Августовна, которой, обменявшись с моими родственниками, удалось спуститься поближе к земле грешной, с пятого на второй этаж, и — больше всего я люблю ее за это — никогда не поймет, как это семье можно предпочесть наркотическое вдыхание чернил и азартные игры с бумагой. Я очень хочу, чтобы сбылась ее главная мечта: оставить внуку Женечке комнату, а уж потом умереть.
И вот еще что.
Священные чудовища у кормушки верховной власти! Все было сделано вами для того, чтобы даже тень тени не оставили эти старухи.
А разве по-вашему вышло?
Они и сейчас сидят в моей кухне.
— Ирина-то вчера целый день гуляла, а хоть бы картошки, непутевая, себе купила! — говорит Евгеша.
— Землю в этом году у племянницы картошкой не засевали, пускай земля погуляет, — говорит Аннушка.
Январь, 1990 г.
Кабирия с Обводного канала
Когда не было рядом мужчин, или голосов мужчин, или мужского запаха, она сидела, развалив колени, и вяло колупала ногти.
Ее звали Раймонда Рыбная, в быту — Монька, Монечка. Фамилию она заполучила от мужа — именем была обязана своей мамочке, а моей тетке, Гертруде Борисовне Файкиной. Тетка от природы была наделена сильным тяготением к красивым предметам, вследствие чего неизменно перевозила за собой с квартиры на квартиру (и тут же прибивала на новом месте): портрет писателя Хемингуэя, календарь за август 1962 года с лимонноликой японкой, полулежащей в чем родила ее мать, и трехрублевого Иисуса, страдающего на гипсовом кресте. Другой природной склонностью тетки была безудержная страсть к вранью. Усталые родственники говорили, что она врет, как дышит. В результате этого ее пристрастия и родилось трогательное предание, согласно которому имя для дочери она подобрала исключительно в память о погибшем на фронте брате Романе. (Рассказывая, тетка, где надо, делала выразительные паузы). Легенду портил маленький изъян. Дело в том, что у Гертруды Борисовны был сын, который появился на свет тоже после гибели своего героического дяди, и, кстати сказать, до рождения Монечки, — ему Гертруда Борисовна подыскивала имя в диапазоне от Аскольда (Асика) до Эразма (Эрика) и окончательно остановилась на Нелике. Корнелий впоследствии стал милиционером.
А вот фотография. На ней Моньке лет четырнадцать — мне, соответственно, четыре. Мы стоим у заснеженной ели, возле дома деда и бабушки. У Моньки просторный лоб, на щеках ямочки, а глаза откровенно шельмоватые, точнее сказать, вполне уже блудливые глаза. Я прихожусь ей по пояс, гляжу взыскательно — и сильно смахиваю на умненькую, строгую и непреклонную старушку.
…Из мириад разлетевшихся осколков поток забвения возвращает почему-то тот, на котором Гертруда Борисовна собирает Моньку в пионерский лагерь.
Тетка стоит на кухне, деревянной ложкой торопливо запихивая в банку из-под компота рубиновый винегрет, и, с красивым оттенком фатальности, очень громко, благо соседи ушли, кричит дочери через всю коммуналку:
— И чтобы ты помнила?! Я в шестнадцать лет выпила только одну рюмку!! И вот с этой рюмки был Нелик!!
Но Монька уже несется с фанерным чемоданчиком по берегу Обводного канала.
Она бежит, улыбаясь, приплясывая, подол юбки, как всегда, намного выше ординара, Монька не меняется, ей вечно четырнадцать, — меняются лишь плакаты и лозунги (они плоховато видны мне за пеленой времени, пыли, сизых выхлопов и заводских дымов): вот человек в тяжелом скафандре осеняет ее римским жестом победы, жест перехватывает орденоносный дядечка с толстыми, как усы, бровями, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, кривые на диаграммах неуклонно ползут вверх, мелькают указатели, канал трудно проталкивает невесть куда мутные свои воды, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, идеальный юноша показывает белые зубы, пять в четыре, и вот уже олимпийский медведь, вознесенный над морем караваев и кокошников, старательно копирует жест космонавта, дядечки, юноши, — она бежит, улыбаясь, приплясывая, вдоль обочины однообразно тянется красный частокол: XXVI XXVII XXVIII, на бегу она подхватывает прутик и громко делает по забору др-р-р-р-р-р-р!! Внезапно парапет обрывается, и плоский, непривычно пустынный берег заманивает ее к тусклой воде. Она завороженно глядит в тающее свое отражение… Плеск одинокого весла особенно отчетлив в этом душном беззвучии. Плату, — на языке немых требует гребец. Она бросается к чемоданчику. Фонтаном взлетают зеленые, зашитые синим чулки, красная юбка с булавкой вместо застежки, танкетки, косметичка, застиранный лифчик с отодранной бретелькой, попугайского цвета кофточка в треугольных следах утюга, газовая косынка, трепаные ботинки, рыжее, в катышках шерстяное платье, взмахнув рукавами, выставляет темные полукружья подмышек… «Не надо», — беззвучно говорит гребец. Она обиженной дудочкой вытягивает губы… Растерянный взор ее плавно перетекает в томный, озороватый, кокетливый и, наконец, откровенно зазывный. Она игриво хихикает и многозначительно лыбится. Гребец недвижен и стар. Сияя, она сощуривает свои зенки — в них яростно пляшут эскадроны синих чертей — и, прикрывшись ладонью, шепчет ему какие-то словечки, мне не слышно какие… Гребец начинает хохотать. Он хохочет долго, облегченно — впервые за тысячелетия однообразного безрадостного труда. Его громкий хохот взрезает бурую тушу заката, и солнце, скандально нарушая вселенский закон, резко дает задний ход, на миг озарив быстротекущую воду… Годится, бодро говорит перевозчик. Он даже слегка молодеет.
Талант Монечки, как водится у вундеркиндов, проявил себя рано, бурливо и шумно.
Бывало, мы спали вместе, когда ездили на дачу к бабушке. Как-то, случайно, я нашарила у Моньки жесткий треугольник волос — в таком месте, где они, по моему разумению, и расти-то не могут. Еще больше я удивилась, что мою находку она явно одобрила и поощрила. Но тут тетка высадила меня на горшок.
Монька давно не пользовалась ночным горшком. По ночам ее чаще всего не бывало дома. Она убегала на поздние танцульки, а утром ее ссаживал с велосипедной рамы кто-нибудь в кепке.
— Это Владик! — чрезмерно правдиво объявляла она и, конечно, разумно не приближалась к крыльцу. — Не узнаете, что ли, Владика?.. Это же Владик!
Удержать Моньку летним вечером дома было делом гиблым. Она исчезала еще с утра. А если ее пытались придержать утром, то днем она вызывалась идти на рынок, в центр дачного поселка, чтобы помочь бабушке принести продукты, — и пропадала на несколько дней кряду.
Ее пороли. Монькин папаша, Арнольд Аронович, герой финской кампании, не торопясь наматывал армейский ремень на беспалую руку. Брюки падали, он переступал через них. В одних трусах это животное, сопя, принималось надвигаться на несовершеннолетнюю свою дочь, которая уже опрокидывала стулья и билась в заранее запертую дверь. Впиваясь в Моньку единственным глазом, циклоп-тарантул без труда завершал поимку: Монька сама замирала в углу. Родитель работал над ней молча, с наслаждением, время от времени сладострастно вскрикивая и резко выдыхая воздух.
Но не успевали еще просохнуть обмоченные трусы, как Монька снова усвистывала.
У меня сохранилась предназначенная ей хрестоматия по советской литературе для десятого класса. Гертруда Борисовна как-то принесла ее по случаю с товарной базы вместе с ящиком циркулей «козья ножка». Как и положено старой деве, хрестоматия дряхла и целомудренна. Никто не покусился разрезать ее листы, остальные же страницы остались нетронуто чистыми, годы жизни классиков на них не подчеркнуты, и на полях нет даже кукольных очей с неправдоподобной длины кудрявыми ресницами. Правда, серая обложка залита чем-то буро-лиловым, вроде портвейна, да на форзаце приторной вязью какой-то ябедницы выведено:


























