Месторождение ветра
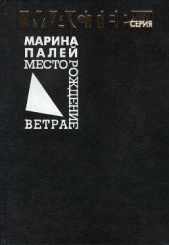
Месторождение ветра читать книгу онлайн
Проза Марины Палей не поддается расчленению на внутреннее и внешнее, на сюжет и стиль. Суверенный мир, созданный этим писателем, существует благодаря виртуозному стилю и обусловлен разнообразием интонации. Огромный дар свободы не может ограничить себя одним героем, одной темой или одной страной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Знакомые обнаружились и у Аннушки. И даже родственники. То есть дальние стали наезжать и сделались ближними. Это были племянницы, обеим лет за пятьдесят: Надежда — костистая, с наждачным голосом и дешевыми серьгами в больших плоских ушах, и стройная, с прозрачными глазами, с густыми — ровным крылом — русыми волосами, — Мария. Они затеялись приезжать, потому что мы с Евгешей оповестили их, что Аннушке все хуже, а приход гостей, их житейски-взволнованное копошение невольно делали видимость того, что все лучше. Они всякий раз учили меня и Евгешу не открывать Кольке дверь никогда, но эта наука была напрасной: Аннушка, объявись он, ползком открыла бы — и еще потому напрасной была эта наука, что он как раз и не объявлялся давным-давно. Он канул с весны, а теперь уж зима была на исходе.
Да, и в этом году зима завяла быстрее, так и не расцветя. Евгеша сама, своим нетерпением, словно ускорила время: не дожидаясь тепла, она принялась бегать по магазинам, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь, пригодное для ремонта унаследованного домика, и, возвращаясь ни с чем, называла змеями продавцов, покупателей и нерадивых работников.
Этой весной она уехала совсем рано. Еще лужи не подтянулись, не обрели цвета солдатских гимнастерок, еще лежали они, раскинувшись, — бесстыжие, глупые, синие, и я не знаю, как она добиралась по этому бездорожью в свое тридесятое царство.
А может, ее подтолкнул на то случай, который она корвалолом запивала, валидолом закусывала.
Аннушка начала терять на ходу; по выражению Евгеши, с нее стало падать. Не донесенная Аннушкой до уборной субстанция шлепалась возле ее собственных дверей — или возле отхожего места, — других вариантов, к счастью, не было, и, пока я убирала эти вещественные доказательства последней старческой немощи (Аннушка ничего не замечала, а то мне даже трудно представить, что с нею было бы). Евгеша все приговаривала, что не дай Бог дожить… Но вот однажды позорная материя обнаружилась возле дверей Евгеши. Она прибежала ко мне красная, в слезах, судорожно вопрошая, что бы это значило. Я ответила, что, ясно, не имею к тому отношения. Евгеша, конечно, и без того догадалась, кто к этому криминалу причастен, но ее здравомыслие пошатнулось под напором тоски, нахлынувшей от бесплодности санитарно-гигиенических устремлений, — так что она усмотрела в этом казусе глубоко оскорбительный для собственного достоинства выпад. Кроме того, она разобиделась на меня за легкость тона и отсутствие должного сочувствия. Из-за этого я превращалась как бы в сообщницу. Евгеша села на телефон и принялась обзванивать своих подруг, плача и жалуясь на судьбу.
Через несколько дней после этого она и уехала.
…Весна плелась календарная, формальная, анемичная, — недоношенная весна: голое окно между зимой, которой не было, и летом, которого не будет. Все сдвинулось: мы с Аннушкой остались одни на сезон раньше, а на дворе лежал черный снег (значит, не-снег), но раз лежал, то все сдвинулось как бы даже на два сезона. Время раскисло в рыхлявом (замечательное выражение ребенка: рыхлом плюс трухлявом) пространстве.
Мне снится. То есть во сне я не знаю, что это сон, и нет большей пошлости и лжи, чем пересказывать сны, но я перескажу.
Я сижу в закутке коридора. Ночь. Я слышу, как в моей комнате открывается дверь. Шаги. Я знаю, что в комнате никого нет, раз я сижу в коридоре. И тем не менее оттуда кто-то идет. Сейчас оно покажется из-за угла. Внезапно я понимаю, кто это. Это (шаги приближаются…) — я сама. В том виде, какая есть на самом деле.
Из-за угла появляется старуха. Я в ужасе бросаю в нее пустую бутылку. Звон стекла. Старуха невредима, она движется на меня. Швыряю бутылку! Звон стекла… Старуха движется…
Просыпаюсь! (В явь, в другой сон?) Старуха и я — одно. Я сижу в коридоре и вижу свои синие старушечьи ноги. Из комнаты напротив моей слышатся шаги. Теперь я не боюсь. В комнате напротив моей живет Аннушка. Это идет она, — хватаясь за стены, теряя войлочные тапки, останавливаясь…
Вот она вылезает из-за угла — старая, нестрашная Аннушка, проходит мимо, открывает дверь уборной… Я гляжу Аннушке в спину — и внезапно, как со стороны, вижу собственный взгляд — хищный, прицельный, — он беспощадно ощупывает жидкие Аннушкины руки, обшаривает «млявые» ноги — и жадно, жадно ищет перемен к худшему. Мгновенно я становлюсь Аннушкой. Я чувствую на своей беззащитной спине, руках, ногах плотоядный взгляд старухи Ирины. Я чувствую холодный взгляд этой внешне еще крепкой Ирины, которой я, старуха Анна, нянчила и жалела сыночка, приговаривая: отдыхай пока, ты еще маленький… скоро в школу пойдешь, там устанешь… Нет, мне, старухе Анне, совсем не страшно, — мне страшно и жалко старуху Ирину, которая так хищно на меня смотрит, потому что старуха Ирина думает: мразь ты, старуха Ирина, ведь Аннушке страшно. Нет, Аннушке не страшно.
А мнé, мне страшно! Я впиваюсь ногтями в подушку, мычу, вою. За что, за что же вы погубили мою бессмертную душу?! «За что!» Вот Аннушкину-то не погубили, сколько ни зверствовали. На кого ты все хочешь свалить? А что?! Ведь она каждый день талдычит мне, что смерть — это счастье! Не надоело ли мне это слушать?! Зачем ей эта жизнь, если она ее не хочет?!
А у меня на площади пятнадцать метров квадратных в тараканьей коммуналке сосуществуют: девяностолетний, с отвислой челюстью, дед, который мочится в баночку, харкает на пол, стонет, не переставая, и ежечасно устраивает скандал моей выпотрошенной матери; там же, сквозь щели трущобы, глядит на свет Божий мой маленький сын. Горбатясь в углу над книжками, он слышит в свой адрес шипящее: «Тише!» Он, никогда не видевший отдельной квартиры, дает ей исчерпывающее определение: «Отдельная квартира — это такая квартира, где можно, чтобы жила киска». Сын слышит в свой адрес «Тише!» от моей выпотрошенной матери, и, когда он смолкает, еще отчетливей визгливый мат пролетарских соседей — из кухни, из коридора, из уборной, из их конуры, отовсюду — иначе друг с другом и со своими детьми не говорящих. У сына тик: дергается щека, шея, судорожно моргают глаза, кривится рот, издавая хрюкающий звук. Моя мать возит моего сына на край города к гипнотизеру, который говорит за червонец: «Отвлеченные мысли тебя не беспокоят» и считает до десяти; мать платит деньги, оторванные от еды, ребенку нужна диета, у него диабет, нет денег и нет продуктов, и, вернувшись на свою жилплощадь, ребенок видит и слышит прежнее; мать валится с гипертоническим кризом, и теперь мой сын и дед, испуганные и дрожащие, смолкают без понукания, а мат пролетарских соседей звучит громче. Но мать выкарабкивается, и они снова грызутся, как пауки в банке, у сына по-прежнему дергаются рот, щека, шея, веки, все идет по-прежнему, и я не переступаю порога этой ловушки, потому что ничего не могу изменить. Нарушен естественный порядок смены поколений, старые дерева губят подлесок, подлесок губит старые дерева; им не разойтись; они взаимно ускоряют свой и без того недолгий срок на жесткой земле. Кто-то должен выбыть из этого противоестественного симбиоза — именно физически выбыть, потому что ареал обитания нам не изменить. Если сын будет жить со мной в одной комнате, то матери и деду станет полегче, но тогда умру я — в прямом физическом смысле — потому что не смогу заниматься работой, которая меня держит в жизни. Если все останется по-прежнему, то первой выйдет из игры (назовем это так) моя мать — еще задолго до лучезарного двухтысячного года, — а сын сойдет с ума. Кому же выбывать, кому? И куда? И разве нам это решать? Кто-то нашептывает на ухо: «Старику». Ерунда. Старик из долгожителей. И хватит об этом! Но кто-то нашептывает имя человека, который сам хочет смерти (я отчетливо слышу имя, его нашептывают прямо в душу, она корежится, пытаясь увернуться); человек говорит мне об этом ежедневно, и это по-житейски так понятно!
Но я-то живу не «по-житейски» и знаю, что одной лишь такой мыслью моя душа загублена. Да, но за что страдает мой сын! Ведь даже животные не живут на голове друг у друга, они не размножаются в таких условиях! «Всем я родился в тягость», — говорит ребенок.


























