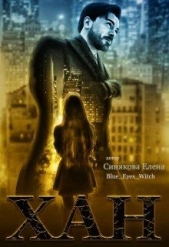Бархат и опилки, или Товарищ ребёнок и буквы

Бархат и опилки, или Товарищ ребёнок и буквы читать книгу онлайн
Книга воспоминаний Леэло Тунгал продолжает хронику семьи и историю 50-х годов XX века.
Её рассказывает маленькая смышлёная девочка из некогда счастливой советской семьи.
Это история, какой не должно быть, потому что в ней, помимо детского смеха и шалостей, любви и радости, присутствуют недетские боль и утраты, страх и надежда, наконец, двойственность жизни: свои — чужие.
Тема этой книги, как и предыдущей книги воспоминаний Л. Тунгал «Товарищ ребёнок и взрослые люди», — вторжение в детство. Эта книга — бесценное свидетельство истории и яркое литературное событие.
«Леэло Тунгал — удивительная писательница и удивительный человек, — написал об авторе книги воспоминаний Борис Тух. — Ее продуктивность поражает воображение: за 35 лет творческой деятельности около 80 книг. И среди них ни одной слабой или скучной. Дети фальши не приемлют».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда мы с тётей Анне на сей раз вошли в кухню семейства Копли, у нас перехватило дух от сладкого запаха яблочного пирога. Тётя Маали делала из яблок своего сада всё, что только было возможно: из летних сортов она варила яблочный суп, пекла на противне пирог и готовила печёные яблоки, взбивала мусс, а из других сортов варила варенье и компоты, делала яблочное пюре и выжимала сок, который называла сихвтом… Но для меня особым лакомством были приятные вяленые ломтики яблок, которые тётя очищала от кожуры, прежде чем нанизать на веревочку и подвесить над плитой. Красиво закрутившаяся яблочная кожура шла на тёплый противень в духовку — из неё тётя зимой заваривала удивительно вкусный чай.
Тётя Маали и в этот раз угощала свою старшую сестру яблочным пирогом. На блюде высилась целая гора золотистых, нарезанных ромбами бисквитных кусков пирога, а сверкающий никелированный кофейник ждал на краю плиты.
Конечно, тётя Маали была согласна взять меня к себе на несколько дней — похоже было, что на сей раз она даже не сочла нужным спрашивать согласия дяди Копли.
— Мы ведь с Куттем тоже могли бы взять к себе несчастного ребёнка бедной Хельмес, — сказала тётя Марие жалостливо, — но у нас самих нет теперь нормального житья. К нам на улицу Видевику подселили квартирантов. Чумазые мальчишки целыми днями бегают и топают в колидоре, у ихнего отца до полуночи орёт радио, а его жена жарит в кухне так, что постным маслом несёт по всей квартире. А когда я хочу на двух конфорках газовой плиты тоже что-то сварить, так этого ворчания наслушаюсь — сил нет. У Куття-то характер мягкий, он с этим Федей раскуривает на кухне папиросы, а я так даже и «тэре» им не говорю!
Взрослым, конечно, все позволено! Тётя Анне, которая беспрестанно требует, чтобы я говорила «тэре» и «спасибо», поддакивала тёте Марие:
— Оно, конечно, в наши дни лучше рта не раскрывать! Вот, у меня вчера случилось такое дело, что не смогла смолчать, высказала энкавэдэшнику правду в лицо, и он хотел меня забрать… слава тебе господи, что мы с ребёнком смогли убежать. И теперь я в «Пярл» ни ногой — боюсь. Эти пирожки с мясом, что я принесла, я взяла в «Култасе»… Да какой там «Култас» — его владельца тоже посадили, а кафе перекрестили в «Москву».
— Тётя Анне отлично бегает, — похвалила я.
— Ну да, а что мне оставалось? Я стояла в «Пярле» в очереди, как раз подошла к прилавку и попросила берлинеров, ну, вы знаете, такие пожаренные в жире круглые, как шарики, пирожки с вареньем внутри, и продавщица пошутила, что берлинеры запрещены, теперь они называются «пончики», а «венские булочки» называются «московскими». Ну я и попросила четыре пончика и четыре московских булочки, как вдруг откуда ни возьмись какой-то тип лезет без очереди, показывает продавщице какой-то документ и на русском языке просит десяток этих самых пончиков и московских булочек. Глянула я в витрину, а там только и было, что десять берлинеров. А мужчина тычет своим волосатым пальцем в витрину: «Да, да!» Я посмотрела ему в глаза и сказала по-русски, что теперь моя очередь, и я ещё не закончила покупать, и показала, где конец очереди. А он и слушать не желает, размахивает передо мной каким-то серым документом. У меня в глазах потемнело от ярости, я и сказала, пусть заправит рубашку в брюки и плывёт обратно через Чудское озеро есть баранки. Он крикнул мне: «Фасист!», а я ему: «Коммунист!» А он угрожает: «Я тебе милитс вызову!» Тут у меня аж рот раскрылся от удивления. По-русски надо было сказать не «милитс», а «милицию»… и не «фасист», а «фашистка»… и вообще… я заметила, что у него русский язык с сильным акцентом, посильнее моего. У меня волосы встали дыбом, и я напрямик спросила: «А ты, коммунистическая тварь, ещё и эстонец? Сколько сребреников тебе Кремль заплатил?» Тогда этот Иуда зашипел, что, мол, сейчас пойдешь со мной, и схватил меня за рукав, но я не вчера родилась, вырвалась и удрала! Потом аж поджилки тряслись, когда подумала, что вдруг меня бы забрали… и надолго, да ещё с ребёнком…
О том, как, переодевшись уборщицей, она ходила в разведку, тётя Анне почему-то рассказать не захотела.
— Ох, господи! — охнула тётя Маали. — И кто знает, настанет ли когда-нибудь конец этим жутким временам? И от Хельмес нет ни слуху ни духу…
— Татина открытка вернулась из Ленинграда, — вставила я.
— Ну, а как твой тата поживает? — спросила тётя Марие. — Отослал ребёнка с глаз долой… Не знаешь, у него есть новая женщина?
В тёмно-карих глазах тёти Марие словно сверкнул какой-то недобрый огонёк, и это меня разозлило.
— Тата скоро за мной приедет! — объявила я, вскинув голову. — На машине, вот!
— Ох нет, Феликсу никто не нужен! — подтвердила тётя Анне. — У них с Хельмес такая любовь была, что в том доме нет места для другой женщины.
— Может, только для Галины, — высказала я. Пока мы ехали в автобусе, мне пришла в голову неплохая мысль: почему бы не позвать Галину жить у нас? Было бы так здорово показать ей мои книжки и, взяв с собой собак, пойти погулять в парк… На миг наступила гробовая тишина, потом тётя Марие спросила, сверкнув глазами:
— Она русская?
— Да, русская — подтвердила я победно. — Она такая красивая, что… что… Можно, я теперь пойду во двор?
Я увидела в окошко, что живущие на верхнем этаже Сирье и Майе вдвоем толкали к песочнице новую кукольную коляску с синим покрывалом, и выскочила из дому. С кукольной коляской можно играть во много игр: в дочки-матери, и в то, как Белоснежка лежит в гробу, и в катание на автомобиле, или даже в ссылку: «Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота…» Кукольная коляска годилась как вагон для скота лучше, чем татины счёты!
Вообще-то жить у тёти Маали было очень здорово, особенно в дневное время, когдя я могла играть с Сирье и с Майе, приказывать Виллу «служить» на задних лапках, искать вместе с тётей на огуречных грядках под листьями маленькие огурчики и объедаться смородиной и крыжовником прямо с кустов. С Сирье и Майе я устроила соревнование по плеванию шкурками крыжовника — кто же ест целлюлозу! Правда, тётя Тийна, мать Сирье и Майе, почти сразу строго запретила нам этот вид спорта, но меня это не огорчило, потому что Сирье за несколько минут так в совершенстве овладела приёмами плевания, что отвоевать у неё титул чемпиона Нымме по плевкам в длину у нас с Майе не было ни малейшей возможности. Но вечером девочки с верхнего этажа должны были рано ложиться спать, Виллу залезал в свою будку, а тётя Маали рукодельничала: штопала носки, пришивала пуговицы на рубашки дяди Копли, чинила протершиеся воротнички и обтрепанные обшлага рукавов. Сам дядя Копли чаще всего вечером уходил на ночное дежурство, он работал пожарным, как и дядя Херберт, отец Сирье и Майе, только вот ночной дежурный не ходил в такой красивой униформе с золотыми пуговицами, как дядя Херберт, который был настоящим дневным пожарным. Правда, униформа с золотыми пуговицами была и у дяди Копли, но она висела в шкафу, была покрыта белой простыней, и о ней никому нельзя было рассказывать. Никому нельзя было рассказывать и о том, что дядя Копли в свободные от работы вечера слушал какую-то жутко тарахтящую и грохочущую радиостанцию — будто это могло кого-то интересовать! Когда уши дяди Копли уставали от слушания человеческих голосов, пробивавшихся сквозь треск и шум, и он выключал радио, становились слышны такие же звуки, только чуть потише, с верхнего этажа — видимо, и дядя Херберт предпочитал для своих ушей более трудные для слушания передачи, чем бодрые песни о спортсменах на яхтах и колхозной молодежи.
Когда дядя Копли был на дежурстве, тётя Маали, занимаясь рукоделием, бормотала себе под нос старинные песни про пастушку, одетую в шёлк и бархат, про Лиллу, которая сидела в темнице, и про двух зайцев, которые жили в густой траве в дремучем лесу. У всех этих песен были грустные мелодии, а мне нравились бойкие песни, которые легко запоминались и которым я могла подпевать: