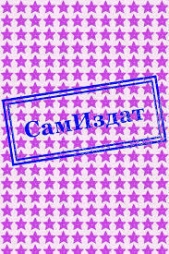Повесть о глупости и суете

Повесть о глупости и суете читать книгу онлайн
Нодар Джин родился в Грузии. Жил в Москве. Эмигрировал в США в 1980 году, будучи самым молодым доктором философских наук, и снискал там известность не только как ученый, удостоенный международных премий, но и как писатель. Романы Н. Джина «История Моего Самоубийства» и «Учитель» вызвали большой интерес у читателей и разноречивые оценки критиков. Последнюю книгу Нодара Джина составили пять философских повестей о суетности человеческой жизни и ее проявлениях — любви, вере, глупости, исходе и смерти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Постоянного возвращения в него. Постоянного в нём пребывания.
Настоящего не существует. Настоящее есть пребывание сегодня, сейчас, в прошлом. Продолжение прошлого и возвращение в него. Поэтому и жить надо из будущего в прошлое, наслаждаясь им не только заново, но и по-новому, ибо сейчас уже знание будущего, — того, что предстоит пройти, а на деле уже пройдено и прожито, то есть, фактически знание прошлого, — это знание теперь уже не отягощает страхом конца: ты уходишь не в смерть, а в начало. К тому, что было. Это — торжество над тиранией времени. И обращение его стрелки вспять.
И ещё — а это сейчас важно: моя внезапная, паническая и с виду неправдоподобная одержимость Субботой, эта сумасшедшая охота за ней, есть не тяга к неизведанному, а наоборот: непоборимое стремление к испытанному, к жизни, к её продлению. Которое возможно лишь если начинать всегда заново.
Но самое главное вот что: эта охота за Субботой, эта надежда её найти всё ещё и удерживала меня от того, чтобы окончательно поверить в спасительность смерти…
41. Дальнейшее произошло быстро
Дальнейшее произошло быстро. Как последние события в жизни.
Я вернул Краснеру его книгу, и, поднявшись со скамейки, мы пристали к толпе. Через двадцать шагов случилась витрина магазина «Кукай», а в ней — стеклянная Суббота.
Краснер замер на месте, а потом — на том же месте — попытался подпрыгнуть, что у него не получилось по очевидной причине. Получилось другое: набрав в своё грузное туловище двойную порцию воздуха и то перебивая себя, а то наскакивая последующими словами и фразами на предыдущие, он прокричал мне в ухо, что — да! — наконец-то вспомнил: я похож на скульптора, на автора этого манекена! Один к одному! Как бывает только в «Мадам Тюссо»! Разве что скульптор этот — не из Грузии, а, наоборот, из Израиля!
— Почему — «наоборот»? — спросил я его, ошарашенный, хотя раньше никого из тех, кто произносил это слово в таком же неоправданном смысле, я не спрашивал: А почему вдруг «наоборот»? И не спрашивал просто потому, что ответа на этот вопрос быть не могло.
Краснер ответ имел: А потому, что всё в жизни сразу и «одно и то же», и «наоборот»!
Удовлетворившись объяснением, я всучил ему телефонную карточку и попросил срочно разыскать скульптора.
Пока Краснер, едва вместившийся в телефонную будку, разыскивал скульптора среди знакомых, я, несмотря на теперь уже типичный английский дождь, не отрывал взгляда от Субботы. Теперь она перестала казаться мне по-стеклянному безжизненной: я посчитал, что, поняв почему она мне нужна, я наконец-то её настиг — и жизнь моя отныне не просто продолжится, а начнётся сызнова.
Краснер, однако, оглушил меня информацией, которую я уже слышал: скульптор улетел вчера в Австралию!
— Надолго? — спросил я.
И тут, не вылезая из будки, Краснер сообщил мне нечто одновременно знакомое и неожиданное — как одновременно знакомым и неожиданным бывает только страх.
Не исключено, сказал Краснер, что этот скульптор улетел навсегда, ибо у него тут семья, а он улетел с манекенщицей, в которую влюбился в Израиле.
— Навсегда? — выдавил я из себя.
А может быть, кстати, и нет, ответил Краснер, потому что другой знакомый — не израильтянин и, наоборот, даже не еврей — сообщил ему иное: будто этот скульптор, большой ценитель женской плоти, уговорил заезжую шиксу не спешить с возвращением домой и посовокупляться с ним среди безлюдных австралийских прерий.
— Неправда! — рассвирепел я. — Она сегодня улетает в Израиль!
Опомнившись, я похлопал Краснера по брюху и пролепетал:
— Последнее одолжение: узнайте, доктор, когда вылетает «Эль-Аль».
42. В зеркале отражался привычный ход времени
В специальном отсеке для пассажиров «Эль-Аль» бросились в глаза длиннобородые хасиды с молитвенниками в руках и гладковыбритые полицейские в чёрных же униформах, но с автоматами. Полицейские расхаживали взад-вперёд с достоинством — как торжественное обещание оградить пассажиров от террористов, а хасиды стояли на месте, но раскачивались. С тем же достоинством и тоже взад-вперёд. Как гарантия, что позже, во время пребывания над облаками, пассажиров не посмеет обидеть другой террорист — Верховный.
Субботы среди них не было, и «Эль-Аль» улетел без неё.
Потом я перебрался в беспошлинный бар, расположился спиной к публике, а лицом к зеркалу, заказал полный фужер коньяка, опрокинул его в глотку и стал наблюдать как на моём лице неотвратимо прорастала щетина.
Несмотря на громкие голоса, громкую музыку и громкие объявления о рейсах, ничто не отвлекало меня от зеркала, в котором отражался привычный ход времени, продвигавший меня, как и всех, к концу. Смотрел я на себя очень долго — пока не провалился в короткий, но знакомый с детства сон.
Приснилась сова, летевшая в высоком небе — сперва над зелёным лугом, усеянном белыми быками, как усеян шарами бильярдный стол, а потом над синим морем, гладким, как надгробная плита. Сова, в конце концов, устала — и когда море снова перешло в луг, спустилась на жердь со скворечником. Не поместившись в нём, она тяжело, из последних сил, взмахнула грузными крыльями и вернулась в небо.
Потом мне почудилось, будто меня разбудил голос деда, каббалиста Меира, который — когда я рассказал ему этот сон, буркнул: «Если увидишь эту же вещь ещё раз, подними себя над собой, разбей себя о колено и начни жить сначала!»
43. В мире утверждаются аллергия к будущему и великая лень
Разбудил меня рыжий поэт, который попросил у пассажиров Первого салона деньги, но не получил их. Он растормошил меня и крикнул в ухо, что надо спешить на посадку: Москва начала принимать.
— А что, — вернулся я в жизнь, — прошёл всё-таки путч или не прошёл?
— А хрен его знает! — сморщился поэт. — Главное — принимают!
Я сказал ему, что в Москве мне в общем делать нечего: посижу лучше в баре.
Тогда он предложил заработать при этом деньги, поскольку у меня есть место в Первом классе. С путчем произошло что-то крайне интересное, объяснил он: в аэропорт нагрянули заспешившие в Москву люди, а среди них — богатая американка, предлагающая четыре куска за кресло в Первом салоне.
Я кивнул головой, протянул ему мой билет и обещал половину, если продажей билета займётся вместо меня он.
Через четверть часа поэт принёс мне две с половиной тысячи долларов, сказал, что ему удалось содрать с американки лишнюю тысячу и благословил меня на всю оставшуюся жизнь. Потом принёс фужер коньяка и предложил чокнуться.
— За что? — спросил я.
— Сейчас скажу! — рассмеялся он, выпил свой фужер и, вытащив из сумки мегафон канареечного цвета, приложил его ко рту.
Мегафон объявил, что зачитает сейчас новое стихотворение, которое не успело ещё найти ритма…
Каждая голова напичкана противозачаточными средствами, а потому в мире утверждаются аллергия к будущему и великая лень. Но этого не достаточно: праздник придёт когда мы научимся не помнить и прошлого, которое отравляет нас надеждами и страхами.
И будущее, и прошлое заставляют человека кем-то стать.
Стать кем-то другим или даже остаться самим собой, но — лучше, чем ты есть. То есть — стать опять же кем-то другим. А это очень неправильно: надо стремиться к тому, чтобы стать никем, надо перестать знать что знаешь и делать что умеешь. Но это так же невозможно, как начать жизнь сначала.
Остаётся только помнить, что никто из нас не создан ради себя. И даже человечество создано не ради себя.
И даже мир создан не ради себя.
Всё существует ради простого и глупого.
Ради Извечного Существования.
После короткой паузы поэт вернул мегафон в сумку и снова рассмеялся. Потом выпил и мой фужер, взглянул на часы и сказал, что пора расставаться. И ещё раз благословил меня за деньги.