Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей
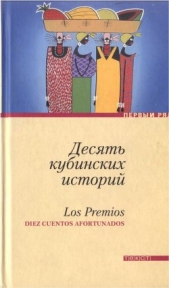
Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей читать книгу онлайн
В книгу вошли рассказы писателей, получивших главные литературные премии Кубы — имени Алехо Карпентьера и Хулио Кортасара. Десять историй интересны тем, что написаны в иной, отличающейся от русской или европейской, литературной манере. Собранные вместе, эти рассказы — непохожие друг на друга стилем, сюжетом, тоном повествования — образуют единое целое и словно ведут между собой живой диалог, в котором лукавый и горячий, под стать кубинскому темпераменту, юмор встречается с терпкой горечью трагизма, а жизнь предстает клубком странных и необъяснимых событий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он захотел рассмотреть подарок, и его рука появилась из скрывавшей его полутьмы.
— Передай-ка его мне.
Любовник протянул бутылку Море. Не дожидаясь, пока Мора ее развернет, и не проявляя ни малейшего любопытства к подарку, который получил его партнер, он удалился, оставив нас одних. Из полутьмы послышался тихий шелест бумаги, и следом возглас радости.
— Мое любимое, — услышал он затем и заметил отблеск бутылки: писатель выставил ее в полоску света. — Рубиновый цвет с отливом охры. Я слышу аромат диких трав, чувствую вкус красной смородины и черники. Как его старательно выдержали: шесть месяцев в дубовой бочке.
Он протянул ему бутылку с просьбой поставить ее на столик рядом с чаем.
— Открыть ее? — предложил я с намерением поднять тост.
Писатель совсем не хотел принижать ценность его подарка, достать который наверняка стоило ему неимоверных усилий, но красное вино стояло на первом месте в длинном списке запретных для него удовольствий. В голове гостя пронеслось воспоминание о потраченных сбережениях, очереди в обменный пункт, о том, как он скрывал бутылку, находясь в доме поэтессы… Все это осело за стенками безразличного зеленого стекла бутылки, которую Море запретили вскрывать. Он попытался успокоиться. «Разве оно не было дорогим подарком, прекрасным посланником, выращенным в старинных виноградниках? Тем оно и осталось: напоминанием о прошлых удовольствиях. Возвышаясь на столике, оно было немым участником нашего разговора», — воскликнул писатель своим ясным звучным голосом. На секунду, по его небрежности, мне удалось увидеть его лицо, возникшее из полумрака и наклоненное ко мне. То было лицо старика, но что-то несокрушимое и, возможно, бессмертное отражалось в нем.
— Вам наверняка говорили, — вернулся он к разговору, снова погрузившись в тень, — что я веду жизнь затворника, редкий экземпляр в центре суетного, бурного города.
Казалось, он снова угадал. Гость признался, что именно так образованная часть города представляла себе его жизнь.
— Отчасти это сплетни, как и многое другое, что болтают о моей жизни и моем творчестве.
Он чувствовал себя окруженным пересудами, являясь скорее выдуманным образом, нежели реальным человеком.
— Я знаю, что в конце концов имя писателя становится тайной. Когда придет час смерти, который уже осторожно подбирается ко мне, я не смогу защититься, и будет бесполезно пытаться сделать это: вокруг моего имени будут царить сплетни. И тогда я стану притчей.
Из-за двусмысленности в его интонациях мне не удалось определить, говорил ли он серьезно или шутил. Неожиданным движением, словно предчувствуя близость исповеди, я вытащил свой маленький диктофон и, поставив его на стол, нажал на старт. Красная лампочка дерзко ворвалась в сумрак комнаты. Аппарат был японского производства, и, усмехнувшись, он подумал, что тот вполне вписывался в обстановку комнаты.
— Можно? — спросил он.
Писатель поинтересовался, не рядом ли с бутылкой вина он поставил диктофон, гость кивнул, полагая, что романист готов разрешить запись.
— Выключите его, — приказал он внезапно. — Наш разговор — не интервью, а встреча. После этого вечера будет еще много возможностей записать все, что вам угодно. Дождитесь этого момента.
Гость удовлетворил его просьбу, выключив диктофон.
— Я отстаиваю свое право на одиночество, хотя уже давно знаю, что это иллюзия и даже больше, чем иллюзия.
Он был уверен, что это желание одиночества являлось несбыточным, невыполнимым ни для мужчины, ни для женщины — в интонации его голоса появился оттенок иронии, — эта невозможность, которая определяет человеческую жизнь, такая же, как стремление к бессмертию или вера в постоянство любви. Постоянство или долговечность? — рассуждая, проговорил он. В его жизни, равно как и в творчестве, был переломный этап — тут гость вспомнил, что Анна Моралес определила этот этап как драматический период, когда писатель почувствовал необходимость отдалиться от многого, точнее, порвать с очень многими вещами и привычками окружающего его тогда мира.
— С комнатой со стенами из пробкового дерева, например, — снова намекнул гость, с тем чтобы Мора понял, что он тоже в курсе.
Да, но Марсель иногда оставлял его одного на ночь и возвращался утром.
— Я не пытаюсь, — прояснил он вдруг, — предложить самый верный метод. Каждому писателю придется изобрести или найти свой. Моим было бегство.
Он сбежал, унося с собой все, и бегство помогло ему разглядеть в каждой вещи, которую он взял с собой, новое богатство. Возможно, это ощущение ценности родилось благодаря дистанции.
— Пять лет я провел в странных скитаниях по комнате, забывая то, чему я научился, чтобы потом, в одиноком возвращении, вспомнить все снова, но в другом измерении. Это был медленный и сложный процесс забывания, который тем не менее оказался очень плодотворным.
Ежедневно он учился всматриваться в свои сокровища. Темные операции, медленный труд, зарождение неизвестного, инертность, муки ожидания… Он спал, как в коконе, как подросток. Он позволял формироваться чему-то отличному от прежнего, тому, на что он уже не будет похож… Он научился пить много вина, не пьянея… Это была прекрасная компания с цветом и ароматом неизведанных лесов… Чего я ожидал? Я надеялся возродиться и возродился. Он начал писать романы. Он спал на земле и расцветал, как расцветает возрожденная природа. Больше никогда он не появлялся на вечерах у Анны Моралес. Она тоже принадлежала к его прошлому, заметил гость, позаимствовав эту фразу у поэтессы. Она ему что-то рассказала об этом? Без сомнения, Ипполит Мора был в курсе, что он присутствовал на вечере.
— Кое-что она мне рассказала, — признался он, несколько озабоченный.
Причина его беспокойства заключалась не в том, что тот ходил на поэтические чтения, его заботила пресловутая всемогущая молва Гаваны. Каким образом Ипполит Мора, ведущий отшельнический образ жизни, мог узнать об этом? Его волновало не то, что он присутствовал на вечере, а тот факт, что писатель был в курсе. Анна Моралес никогда не звонила ему по телефону, и ни один из приглашенных ею поэтов не осмелился бы сообщить писателю эту новость.
— Как я об этом узнал? У меня для вас сюрприз, — предупредил он его вдруг. — Мне позвонила Анна, спустя пятьдесят лет.
Казалось, он догадался о причине моего беспокойства.
— Она сообщила, что вы придете ко мне как-нибудь, после того как я поправлюсь. Он безумно жаждет познакомиться с тобой. По телефону ее голос звучал язвительно. Я никогда не отвечаю на звонки и не подхожу к телефону, но когда Ли сказал мне, что это Анна, я не смог удержаться.
Пятьдесят лет, прожитых без общения и встреч, не слыша голоса друг друга, превратились и слились в душе Ипполита Моры в комок энергии под названием Анна. Он встал и подошел к телефону. Из трубки до него донесся ее голос, хрипловатый от волнения. Как в прежние времена, словно он стоял перед ней, в ее голосе появилась хрипотца. Анна попросила, чтобы он нарушил свое уединение и принял его, и представила все таким образом, будто это она направляла его к нему, как драгоценный подарок, отказываясь от него, тогда как Мора знал — ведь Анна сама только что ему об этом сказала, — что будущий гость страстно желает с ним познакомиться.
— Я пропустил мимо ушей это скрытое высокомерие, не столь важное после нашего длительного разрыва; мы говорили недолго. Мы слышали дыхание друг друга: телефонный аппарат снова сблизил нас.
Прервав молчание, оба поспешно извинились.
— Мы попросили друг у друга прощения, не осознавая, что прошлое являлось именно прошлым — несокрушимым камнем или железом, и у нас не было возможности проникнуть в него. Наши желания склонны приписывать себе огромные, бесчисленные полномочия.
Им удалось простить друг друга, и, взволнованные, они пообещали никогда больше не встречаться. Прежде чем рыдания заглушили бы их голоса, они закончили разговор.
— Не говорил ли я вам пару минут назад, что одиночество является одним из наших несбыточных желаний? Вот вам результат. Жизнь так прилипчива.


























