Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей
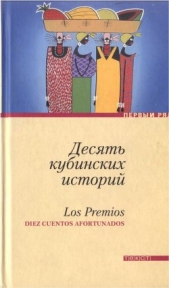
Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей читать книгу онлайн
В книгу вошли рассказы писателей, получивших главные литературные премии Кубы — имени Алехо Карпентьера и Хулио Кортасара. Десять историй интересны тем, что написаны в иной, отличающейся от русской или европейской, литературной манере. Собранные вместе, эти рассказы — непохожие друг на друга стилем, сюжетом, тоном повествования — образуют единое целое и словно ведут между собой живой диалог, в котором лукавый и горячий, под стать кубинскому темпераменту, юмор встречается с терпкой горечью трагизма, а жизнь предстает клубком странных и необъяснимых событий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Казалось, что и их беседа завершена: в течение неопределенного времени они молчали. Гость чувствовал, что старик писатель наблюдает за ним из своей полутьмы, ожидая, что что-то произойдет. Он заметил неожиданное движение: Мора взял один из своих миниатюрных кинжалов и, обхватив его за рукоятку, начал тыкать острием в ладонь. Вскоре он прекратил эту странную игру. Клинок кинжала, запущенного писателем, пролетел над чайным сервизом и завис в воздухе, совсем рядом с гостем. Их беседа возобновилась вопросом, как бы подчеркнутым лезвием кинжала и который гость услышал с ошеломлением:
— Она зажимала вас ногой?
Было очевидно, что в свое время они находились в близких отношениях. Вполне вероятно, что поэтесса не преувеличивала и они даже были любовниками, но гость решил ответить так, как будто бы бедро Анны Моралес все еще сжимало его между ног. Он не хотел врать ни писателю, ни себе. Он ответил, что да, и это прозвучало даже с долей бесстыдства. Это утверждение означало, что и он тоже обнимал ее, сжимал ее талию. Кинжал стукнулся о стекло бутылки, когда Мора положил оружие на столик. Рука и часть его лица скрылись в тени, в пещере, в материнской утробе…
— Когда ей нравится или интересен мужчина, — сказал он угрюмо и слегка отстраненно, — она всегда использует одну ту же тактику. Я думал, что время сможет… Но сейчас вижу, что нет. Ничего в ней не изменилось, и даже страсть к танцам не угасла. Танец был ее особой манерой общения с телом мужчины.
В то время, когда они познакомились, они устраивали вечера для двоих, никого больше не приглашая.
— Мы читали друг другу свои стихи, правили их и снова зачитывали вслух. В какой-то момент Анна Моралес, казалось, начинала задыхаться, охваченная непонятным жаром. Вытирала платком жаркий лоб, проводила им по пылающей, как огонь, груди. Усталая, в лихорадочном состоянии, с внезапно возникавшими темными кругами под глазами, она поднималась с дивана, на котором они работали, ее тело требовало не стихов, чего-то другого. Она подходила к проигрывателю и включала музыку, чаще всего болеро. Они начинали «болеровать», как говорила она, под ритм заранее выбранных мелодий. Постепенно, пока ее тело изгибалось в танце, ее буря затихала, исчезали круги под глазами и платочек…
— Каждый раз, когда мы танцевали, она выбирала момент и решительно прижимала свою ногу к моему органу, или «конечности», как она стыдливо его называла.
Сперва Ипполит Мора согласился на то, чтобы поэтесса этим ограничивалась, и, возможно, в этом принятии ее правил и состояла его ошибка. Как-то раз он отважился поднести ее руку к своей промежности, чтобы она потрогала. Анна Моралес согласилась на это, но ее согласие длилось всего секунду. Затем она с улыбкой отстранялась, принималась скакать и бегать, как будто ей было стыдно от того, что она только что сделала. Преследуя ее по комнате, я заставлял ее трогать себя. Поэтесса облизывала палец и прижимала его к моим брюкам, к тому месту, которое она называла «животным» — для контраста, намекая на существование духа. Влагой слюны она хотела погасить жар.
— Прямо жжет, — говорила она, снова смачивая палец и повторяя то же действие. Когда однажды Ипполиту Море удалось повалить ее на кровать силой, почти рискуя, что пропадет желание и эрекция, Анна Моралес расплакалась, умоляя и обещая удовлетворить его желание на следующий день. Она понимала, что плакать в ее возрасте было недостойно ни поэта, ни свободной женщины, и примешивала к слезам смех. И поскольку она мне отказывала, мне не удавалось ее забыть. Действия, которые нам не удалось осуществить, несмотря на все приложенные усилия, особенно когда они связаны с подавлением сексуальности, нас мучают и порабощают. Ему никогда не удалось пойти дальше. Поэтесса была несгибаемой и, как ему подтвердил один из друзей, каменной розой.
Понадобились бы долото и клетка, чтобы лишить девственности эту беглянку. Такая безрезультатная настойчивость меня истощала, и это истощение вызывало постоянное состояние чудовищной усталости, от которой невозможно было освободиться, которую в Средние века называли апатией. Если бы она стала моей, а потом я бы ее потерял, это не было бы столь жестоко. Ощущение от потери несравнимо слабее ощущения от обладания. Даже более того, сказал вдруг писатель, потеря — это второе приобретение, в котором начинают взаимодействовать воспоминания и внутренний мир. Потеря подтверждает в душе человека факт обладания.
С Анной все было пустым, полным отсутствием, обнимание теней и привкус горечи во рту… Осознав грозящую опасность, она впадала в истерику или ревновала, становилась меланхоличной, неистово преследовала его и предъявляла ему бредовые обвинения.
На одном из их одиноких вечеров он предупредил ее. Я больше не мог жить, мастурбируя, и думал, что Анна тоже, но я ошибся. Она снова отступила и умоляла, чтобы он не настаивал, опять смеялась сквозь слезы. Я проводил ее до дверей и сказал, что между нами все кончено. Впервые за все это время она попросила, чтобы я ее поцеловал. Мора исполнил ее просьбу, но уже решив расстаться с ней и не возвращаться. Он чувствовал то, что потом больше ни к кому не испытывал, — огромную, безумную досаду. Поэтесса сжала его плечи и, когда он уходил, попыталась задержать его. В последний раз она взяла в руки мой член. Она была в отчаянии. Мора не мог вынести ее отчаяния: оно было запоздалым, все уже прошло.
В молодости Анна Моралес любила слабых, нуждающихся в ее покровительстве мужчин, которых могла защищать. Ипполит Мора не входил в этот многочисленный легион и, возможно, не пробуждал в ней сострадания и жалости. Поэтому, решил он уже потом, он ее не возбуждал. Мы были одного поля ягоды и в чем-то похожи, в чем-то, что сложно выразить словами, как схожесть между уже осуществленным и тем, что вот-вот произойдет. Затем она стала устраивать свои вечера с этой армией евнухов, которые восхваляют ее поэзию и с которыми она ничем не рискует. Спустя какое-то время после расставания Анна Моралес получила большой конверт с любовными и эротическими стихами, которые она ему посвятила и которые Ипполит Мора ей возвращал. Вместе с ними он прислал и свои собственные: обгоревшие страницы и пепел. Не сохранилось ни одного из тех, что он написал.
— Мы больше никогда не встречались и не слышали голоса друг друга.
Внимая повествованию, гость хотел бы что-то набросать на бумаге, записать, запечатлеть этот единственный миг, боясь, что он больше не повторится… Это был зачаток его главы о таинственных отношениях между этими двумя необыкновенными людьми, и, кроме диктофона, который писатель запретил ему использовать, он больше ничего с собой не принес. Ему на память пришли «Разговоры с Гёте», просто как сравнительная метафора: к счастью для обоих, он не был Эккерманом [13], а Мора не был Гёте. В этом и состояло отличие: воодушевленный Эккерман, беседуя и слушая, упражнялся в проницательности и усердии, благодарный судьбе за то, что она свела его с великим писателем. Однако, с большим вниманием слушая своего героя, Эккерман, в отсутствие диктофона, довольно редко делал записи. У него была живая память, память, ставшая бесполезной с появлением записывающей аппаратуры. Вернувшись домой, он мог воспроизвести на бумаге все, что услышал. Гость попытался ему подражать и прислушался. Он вслушивался с неожиданным для его эпохи напряжением, неподвижно сидя на неудобном лакированном сиденье, с прямой, как кол, спиной, охваченный нездоровым любопытством. Пока он слушал с таким вниманием, у него возник вопрос: был ли он одним из тех слабых молодых людей, о которых упоминал Мора? Но ведь поэтесса назвала его ангел ом-хранителем, так что слабой здесь, скорее, оказывалась она. Может, писатель ошибался относительно нее?
— Скажите мне, молодой человек, — появившись вновь из темноты, наклонился писатель к нему, — вы ведь совсем недавно видели ее, от нее все еще исходит тот аромат?
Тогда гость упомянул о начале танца, о том, как впервые он держал ее в своих объятиях.


























