Очерки поэзии будущего
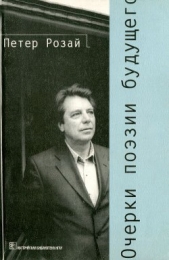
Очерки поэзии будущего читать книгу онлайн
Австрийский писатель ПЕТЕР РОЗАЙ (р. 1946) — автор более тридцати произведений в прозе, нескольких поэтических сборников, пьес и радиопьес. Лауреат престижных литературных премий. Произведения Розая переведены на все основные европейские языки.
На русском ранее публиковались романы "Отсюда туда" (1982), "Мужчина & женщина", ряд рассказов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чтобы продолжить предыдущий пример: Последним словом философии был бы тогда союз И — такой способ заниматься философией был бы правильным до тех пор, пока не заходит речь о волении.
Воление знает цель: как ничто иное. (Теперь ты прогуливаешься поблизости от древнеиндийской мудрости и ее дериватов.)
Всякая измеримость, всякая возможность перепроверки связана с волей, с намерением, Без воли странным образом невозможен никакой диалог.
Симпатично и, в сущности, правильно у Витгенштейна, в его методе вот что: он никогда не доходит до последнего слова. Он как бы предупреждает читателя: Самое важное еще не высказано, еще впереди!
Так он растрачивает, конечно, свои силы по дороге. Как человек, который пошел выпить, но, дойдя до первой пивной, говорит себе: Нет, поищу чего получше — и так без конца.
Чем бесконечнее воля, тем ничтожнее фиксируемый, измеримый результат, т. е. кто хочет всего, ничего не добьется — в его глазах.
Пропойцы любят свой кабак, его кабаком был целый мир (в подражание Есенину). В большинстве кабаков и так яблоку негде упасть.
Когда отчаявшийся завопил в кабаке: Выбросьте к чертям ваши проклятые деньги! Смотрите на меня! Это конец, я гибну! — я чувствовал, что этот человек говорит какую-то правду. Я чувствовал, как мир идет ко дну: вокруг ступней отчаявшегося уже наметилась маленькая впадина и — какая красота — все, стойка, мебель, клубы табачного дыма, тусклые лампы, все, даже расквашенное лицо отчаявшегося, все-все подернулось вдруг сиянием надежды: сверкающим инеем!
Правда — это надежда, она светит во мраке — пусть даже это самая жалкая правда.
Тот, кто знает, что ему надлежит делать, бросает все как есть и уходит: Ты всегда чувствуешь, что живешь неправильно — как бы ты ни жил.
Сначала я все силы направляю на то, чтобы показать, что о вопросах жизни ничего невозможно сказать (о СТАРЫХ вопросах философии), а потом мне уже ничего и не надо говорить, я избавил себя от этой необходимости: чудесно!
Естествоиспытатель, рыдающий перед микроскопом, увидит, правду сказать, немногое. Окуляры будут заплаканы. Но жизнь не только в том, чтобы наблюдать.
Кто же подскажет, В КАКУЮ СТОРОНУ обратить взгляд? Что запеленговать? Какую выбрать область исследования?
Исторический аспект: Любая культура опирается на фундамент, о котором мало что известно, нет ясного знания — и растет столько, сколько может выдержать фундамент (договор основателей, их воля, подхваченная потомками) — до тех пор, пока все не начинает колебаться и рушиться.
Вот этот момент: когда корабль идет ко дну и только корма, почти вертикально, под прямым углом торчит из воды, а другие части уже внизу: момент красоты;
Мир становится чужбиной, если ты ничего в нем не хочешь: культура в той ее стадии, когда уже все равно, чего хочешь, договор нарушен, дороги стали беспричинными, бесконечными.
Женщина-мать сидит перед тобой, под глазами синяки, живот обвис, жирные бедра, зияющая дыра, такая огромная, что, когда заглянешь, мать, твоя мать, почти сразу же исчезает, растворяется в пространстве — и перед этим успевает сказать: Делай, что хочешь!
Ты идешь по городу, где все закрыто. Ты теряешь записную книжку с номерами телефонов. Ты больше не помнишь своего имени. Тогда в тебе начинает шевелиться последняя, бледная гордость.
Ситуацию можно было бы представить, пожалуй, так: Тебе хотелось бы сообщить радостную весть, и ты предполагаешь, как это приблизительно могло бы звучать. Но, не говоря уже о том, что предчувствие радостной вести еще далеко не есть сама радостная весть, у тебя нет тех слов, которыми ты мог бы ее сообщить, сделать понятной — не говоря уж о том, что тебе отказывает голос.
Ты представляешь себе это примерно так: Мир — это большое помещение, и наши проблемы возникают оттого, что оно недостаточно освещено. Повсюду спотыкаешься, натыкаешься на какие-то предметы, путаешься, куда идти. Задача, следовательно, в том, чтобы вносить в помещение лампы, столько и до тех пор, пока все не осветится ровным светом, — это и был бы момент радостной благой вести! (Правильно я тебя понял?)
Ну вот, теперь еще и лампы!
Но что если эти самые лампы, которые есть у тебя в запасе, никуда не годятся, если ты все снова и снова их расставляешь, переставляешь, а ничего не выходит?
Ты скажешь: Идем же! Давай! Шевелись! Это отличные лампы. — И вот ты усердствуешь, карабкаешься наверх, нагибаешься вниз, ползаешь на четвереньках — да, да, я вижу твою задницу!
Нужно уметь извлекать свет из мрака, или скажем иначе: Если другого источника света нет, нужно использовать в качестве лампы самое темноту.
Ты себе не представляешь, как ты мне надоел! Я тебя презираю. И все-таки: Ты должен попробовать.
Мох не образуется на катящемся камне: отыгравшая, облезлая гордость.
Иногда я вижу глаза больших сов, круглые глаза, поблескивающие в глубине дупла, вижу их головы, оперенье их крыльев, я сам как пень срубленного дерева, который умеет ходить, вокруг пахнет гнилью, и я танцующей походкой иду по просеке, залитой лунным светом.
Есть места или точки пространства, которые невозможно отыскать, когда ищешь: они должны попадаться на дороге. Но не всегда удается выбрать верный маршрут, вам препятствуют, вас искушают, вынуждают выбирать обходные пути: Так попадаешь в такие места, что и присниться не могло, что ты когда-нибудь там окажешься.
Двое отправляются в одно и то же место и даже прибывают по назначению: Что же ты видел, счастливец, а ты что, несчастный?
Мыслить — значит рассчитывать, говорит Гоббс, и он прав; правда осталась за ним, потому что наше мышление стало опираться на фактический материал.
МЫСЛИ такого, например, философа, как Паскаль, кажутся сегодня не столько мыслями, сколько смелыми фантазиями, — они не имеют ничего общего с тем, что мы видим вокруг себя.
И если какой-то человек пусть даже всего одну-единственную вещь видит иначе, чем Ты — а было бы удивительно, если бы это было не так, — вам никогда уже не встретиться: ибо все, начинаясь в этой тайной точке, будет все дальше расходиться и расщепляться.
Как в столярном деле.
Одно хочу сказать Тебе, друг мой: Если твой мир раскалывается надвое и ты не знаешь, за что удержаться, — и тут появляется человек, который Тебя любит: То держись за него крепко, люби его, но не удивляйся, когда и это разобьется на мелкие части, распадется у Тебя на глазах, и ТЕПЕРЬ Ты снова увидишь старую картину: Разрыв! Пропасть! Мрак! — Это чужбина.
И, если Ты еще никогда не чувствовал, что Ты проклят — просто по той причине, что Ты один из людей, — теперь Ты это почувствуешь.
Единственное, что связывает здесь людей, это СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ.


























