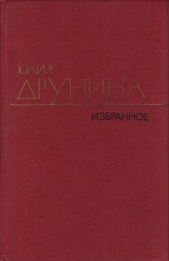Камушек на ладони. Латышская женская проза
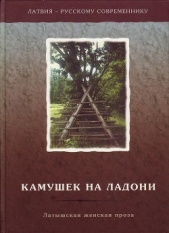
Камушек на ладони. Латышская женская проза читать книгу онлайн
…В течение пятидесяти лет после второй мировой войны мы все воспитывались в духе идеологии единичного акта героизма. В идеологии одного, решающего момента. Поэтому нам так трудно в негероическом героизме будней. Поэтому наша литература в послебаррикадный период, после 1991 года, какое-то время пребывала в растерянности. Да и сейчас — нам стыдно за нас, сегодняшних, перед 1991 годом. Однако именно взгляд женщины на мир, ее способность в повседневном увидеть вечное, ее умение страдать без упрека — вот на чем держится равновесие этого мира. Об этом говорит и предлагаемый сборник рассказов. Десять латышских писательниц — столь несхожих и все же близких по мироощущению, кто они?
Вглядимся в их глаза, вслушаемся в их голоса — у каждой из них свой жизненный путь за плечами и свой, только для нее характерный писательский почерк. Женщины-писательницы гораздо реже, чем мужчины, ищут спасения от горькой реальности будней в бегстве. И даже если им хочется уклониться от этой реальности, они прежде всего укрываются в некой романтической дымке фантазии, меланхолии или глубокомысленных раздумьях. Словно даже в бурю стремясь придать смысл самому тихому вздоху и тени птицы. Именно женщина способна выстоять, когда все силы, казалось бы, покинули ее, и не только выстоять, но и сохранить пережитое в своей душе и стать живой памятью народа. Именно женщина становится нежной, озорно раскованной, это она позволила коснуться себя легким крыльям искусства…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Простите, придется есть со сковороды. — Лайла покраснела чуть ли не до слез.
— Невелика беда. То ли бывает на войне? Была бы еда, — сказал солдат.
Лайла поставила на стол сковородку, принесла буханку хлеба и кувшин молока.
— Придется пить прямо из него. Или из ковшика, если хотите.
— Лучше из ковшика. Только до самого верха не лей.
Лайла отрезала ломоть от тяжелого каравая и, ох как было больно, налила в ковшик до половины молока и сделала вид, что ей надо пошуровать кочергой в плите.
— А ты сама?
Лайла проглотила слюну.
— Я по утрам никогда не ем. — И выскочила поискать свежего подорожника.
Когда солдат поел, Лайла подошла с блузкой, подорожником и влажными носками.
— Теперь я заново перевяжу.
— Может, не стоит? — Теперь он покраснел.
— Нужно обязательно! — Лайла полоснула ножом по спинке блузки, чтобы легче рвалась.
— Это твоя блузка?
— Я давно ее не ношу. Мала.
Когда это Лайле приходилось за одно короткое утро так много врать?
— Я и носки вам надену, чтобы повязка не съехала. Не очень-то я умею перевязывать.
— Совсем как ребенка малого, — посетовал солдат.
— Ничего. Сапоги обуть сможете сами. — Лайла вынесла из комнаты сапоги. Ее удивляло, что при нем не было ни ранца, ни оружия.
Обуваясь, солдат сказал:
— За то, что ты обо мне так заботилась и накормила, хватило бы и спасиба. Но мы с тобой ночь в одной постели провели. Значит, придется мне на тебе жениться.
— Нет, нет! Не надо! Вы мне ничего не сделали. — Лайла спрятала лицо в ладонях.
Солдат смеялся долго и от всей души. Лайла опять опростоволосилась.
— Я очень тебе не нравлюсь?
Лайла отняла от лица ладони и посмотрела. Уж такой красивый парень никогда не взял бы Лайлу в жены. Насмехается.
— Да и не могу я выйти замуж. Мне еще только тринадцать лет.
— Так сейчас и я не могу. На фронт надо. Но я подожду, пока ты вырастешь. Условились?
Лайла отвернулась и ничего не сказала. Не в первый раз над ней подшутили.
Солдат встал.
— Ну, мне пора, пташка! Как тебя зовут?
— Лайла.
— А я Эдмунд.
— Я провожу вас до дороги.
У замшелых ворот они остановились. Солдат посмотрел на табличку, что на углу дома.
— «Леястирели». Это слово и Лайлу я никогда не забуду.
Он взял Лайлу за плечи, повернул к себе, заглянул в глаза.
— Если я не приду, знай, что меня убили. Спасибо тебе за все.
Поцелуй в лоб был легким. Удаляющиеся шаги — тяжелыми.
Лайла приникла головой к воротам и смотрела, как он уходил, стараясь не хромать. Подтянутый и стройный, он все уменьшался и уменьшался, до самого поворота дороги вдали. И вот дорога пуста.
Теперь Ролис мог скулить. Даже выть. Надо было идти в дом и соскрести копоть со сковородки, чтоб хозяйка не бранилась. Если вернется.
Если вообще кто-нибудь вернется сюда.
Перевел М. Афремович
ДАГНИЯ ЗИГМОНТЕ

Об авторе
ДАГНИЯ ЗИГМОНТЕ (1932–1997) — рижанка, которая многие годы проводила лето в Микельбаке Таргальской волости Вентспилсского района, блестящий прозаик. Направленность ее творчества уже в самом начале была надломлена резкой идеологической критикой, вследствие чего Д. Зигмонте в своих произведениях долгие годы отказывалась от обращения к острым проблемам, отдавая предпочтение бытовой проблематике и влиянию повседневной жизни на мироощущение человека.
Д. Зигмонте окончила отделение немецкого языка факультета языка и литературы Рижского педагогического института, работала журналистом и переводчиком. Она — автор целого ряда популярных романов — «Дети и деревья тянутся к солнцу» (1959), «Морские ворота» (1960), «Дай руку утренней заре» (1967). Многие произведения были драматизированы и экранизированы. Творческий труд писательницы увенчался автобиографической трилогией «Адиени». Подлинно живая, искренняя проза Д. Зигмонте — это ее рассказы для детей и книга «Неуемный нож», в которой собраны литературные обработки легенд Северной Курземе (1988). Не получил должной оценки вклад Д. Зигмонте в юмористический жанр, хотя она долгие годы была весьма плодовитым автором юморесок.

КАРШКАЛНСКИЙ ЛЕСНИК
Вилюм не хотел в лесники, нет и нет. Чем плохо быть конюхом? Конь — умное и ласковое животное. Подходишь к нему, и он с тихим ржанием прижимается к тебе мордой, здоровается. Кладет голову на плечо, стоит и стоит так, не думая даже, что его тяжелую голову ох как трудно удержать. Если ты будешь добр к нему, к жеребенку, то потом и он будет добр к тебе. Все кони в именье были спокойные и послушные, и управляющий терпеть не мог — для него это было горше смерти, — когда барин велел покупать коней на стороне. Иной попадался с такими мерзкими капризами, такой своенравный, что никуда ты его не приспособишь — ни в плуг не впряжешь, ни в телегу, так что приходилось втихую опять продавать. «Ни одного чужого коня в моей конюшне», — закричал бы управляющий так, что по всей округе бы разнеслось, да только в делах у него не было и не могло быть решающего слова, не смел он перечить барину, и не родился еще такой смельчак в этом краю, чтоб перечил. Стоило возразить хоть слово, как на лбу у барина набухала большая толстая жила, он взглядывал, словно грозовое облако, и тогда… Ну, тогда такое начиналось…
Вилюма барин, похоже, жаловал. Тихий, послушный парень, дело свое делает с душой, не спустя рукава. Когда весной умер каршкалнский лесник, не оставив преемника, барин подумал о Вилюме. Барин очень заботился о своих лесах, нечестного человека и близко к ним не подпустил бы. А этот — парень порядочный, не спутается с лесными ворами, которые в последнее время расплодились повсюду. Старый лесник был не без греха, рассуждал барин, да только за руку никто ни разу его не поймал.
Когда барин сам сообщил Вилюму радостную весть, тот так и съежился и робко глянул на господина.
— Дивишься, конечно, что такую честь тебе оказали? — барин засмеялся, по его мнению, смех должен был звучать добродушно. Но Вилюм испугался. Любому человеку, и даже самому управляющему, Вилюм осмелился бы объяснить, что это место не для него. Вилюм не любил все, что стреляет, да и не умел обращаться с ружьями, и когда все-таки случалось пострелять вместе с другими парнями из именья, он хорошо если в дверь сарая попадал. Как такому неумехе в лесники идти? И еще бегать денно и нощно, лесных воров отлавливать или же опять когда господа надумают охоту устроить… Нет, нет. Пусть ищет другого, настоящего, который может все и будет рад этой должности.
Но барину он не мог все это высказать, тут и одного слова было бы слишком. Слишком оказалось и его молчания, и барин, забыв про свое добродушие, воскликнул коротко и резко:
— Ну, что уставился как сова на солнце?
У Вилюма, и правда, было отдаленное сходство с совенком: волосы торчком, уши открыты и глаза — большие и чуть выпуклые. Но вообще-то Вилюм был парень хоть куда, и многие молодые прачки на него заглядывались.
— Я, барин…
Вилюм поцеловал барский рукав, барин, довольный, принял это за благодарное согласие и потому сказал, растянув губы под рыжими усами:
— Ну, тогда собирайся вступить в должность.
Так вот просто. У Вилюма, у бедолаги, даже матери не было, чтоб выплакать у нее на груди свое горе, Вилюм был один как перст. Одна голова, одна забота. Неси свою голову и свою заботу в Каршкалны и живи там в полном одиночестве, хотя здесь, в именье, так привычно среди людей, как грошу среди монеток в кошельке.
Кто-то невыносимо царапал сердце, разрывая его изнутри. Так Вилюм и не возразил ни слова, да и мог ли… Отправился восвояси, нацепив на лицо подобострастно-боязливую улыбку.
Молодые прачки, узнав о решении барина, в один голос заговорили, что, мол, этому симпатяге Вилюму счастье привалило. А псарь Янис, который в друзьях у Вилюма ходил, сказал со смехом счастливчику: