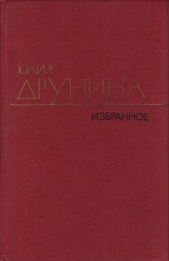Камушек на ладони. Латышская женская проза
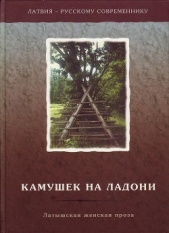
Камушек на ладони. Латышская женская проза читать книгу онлайн
…В течение пятидесяти лет после второй мировой войны мы все воспитывались в духе идеологии единичного акта героизма. В идеологии одного, решающего момента. Поэтому нам так трудно в негероическом героизме будней. Поэтому наша литература в послебаррикадный период, после 1991 года, какое-то время пребывала в растерянности. Да и сейчас — нам стыдно за нас, сегодняшних, перед 1991 годом. Однако именно взгляд женщины на мир, ее способность в повседневном увидеть вечное, ее умение страдать без упрека — вот на чем держится равновесие этого мира. Об этом говорит и предлагаемый сборник рассказов. Десять латышских писательниц — столь несхожих и все же близких по мироощущению, кто они?
Вглядимся в их глаза, вслушаемся в их голоса — у каждой из них свой жизненный путь за плечами и свой, только для нее характерный писательский почерк. Женщины-писательницы гораздо реже, чем мужчины, ищут спасения от горькой реальности будней в бегстве. И даже если им хочется уклониться от этой реальности, они прежде всего укрываются в некой романтической дымке фантазии, меланхолии или глубокомысленных раздумьях. Словно даже в бурю стремясь придать смысл самому тихому вздоху и тени птицы. Именно женщина способна выстоять, когда все силы, казалось бы, покинули ее, и не только выстоять, но и сохранить пережитое в своей душе и стать живой памятью народа. Именно женщина становится нежной, озорно раскованной, это она позволила коснуться себя легким крыльям искусства…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты остаешься дома, в любую минуту может приехать мать или Велта. Тогда заприте дверь и положите ключ… ты знаешь куда.
Лайла знала куда. Стоя за дверью в хлев, Лайла слышала разговор хозяйки с хозяином и знала, что мать уже удрала со своим фрицем, а Велта еще раньше матери, так что никто за ней не придет и никому она не нужна.
Порывалась крикнуть: — Ты же знаешь! — но не крикнула. Лайла лишь тяжело вздохнула, сжала губы, отвернулась и покраснела. Ей было стыдно за хозяйку. Так стыдно, что она даже не стала проситься, чтобы взяли с собой, говорить, что ей страшно здесь оставаться одной. Потом — да. Потом она кричала и плакала. Но больше не плачет. Все слезы выплакала. И сердце уже так не колотится. Не все ли равно!
Лайла уселась за кухонный стол, подумала, что неплохо бы что-то съесть на завтрак, но есть не хотелось. Голова сама упала на руки, и Лайла вздремнула.
Когда она проснулась от стука в дверь, плечо и шея совсем онемели. Стучали несмело, не так, как армия. Мать? Все-таки?
Но снаружи послышался мужской голос: — Эй, есть там кто-нибудь?
По-латышски. Свои. Лайла побежала к дверям, отомкнула, рванула на себя, но дверь не поддалась. Только тут вспомнила про засов и отодвинула его.
На пороге стояли два солдата, потные и все в пыли.
— Такие мы страшные, что пришлось закрыться на засов? — усмехнулся тот, что ростом повыше.
Лайла покраснела, солгав: — Я умывалась, — и покраснела еще больше.
Высокий засмеялся:
— Значит, уж вода-то по крайней мере в доме есть. Нам, видишь ли, надо бы напиться. Можно попросить?
— Да, пожалуйста. — Лайла схватила ковшик и впереди солдат направилась к колодцу. На краю его стояло прежнее ведро с водой.
— Хотите отстоявшуюся или свежей набрать? У нас вода очень холодная.
— Свежую зачерпнем, — сказал коренастый, выплеснул воду и опустил ведро в колодец. Сам же молниеносно вытащил, видно слишком жажда томила.
Лайла зачерпнула ковшик и протянула ему первому:
— Прошу!
Коренастый пил так, что в глотке клокотало и лилось по подбородку. С жалостью подумала, что у него будут болеть зубы и горло.
Высокий в одной руке держал ковшик и неторопливо пил, а другой отцепил ведро и снял его со сруба. Видно, ковшиком тут было не обойтись.
Лайла схватила его за рукав:
— Ведро отдать не могу. Хозяйка рассердится.
— Ну, тогда ступай за нами вместе со своим ведром, — сказал высокий и широким шагом пошел к дороге, Лайла засеменила следом.
На обочине рука за рукой тянулись к ковшику, и ведро мигом опустело. Лайла искала глазами тех двоих, уже знакомых ей, но они ушли. Тот, кому воды не хватило, с темными, прилипшими к потному лбу волосами, жалобно глядел на Лайлу. Ресницы у него были длинные, влажные, как у теленка.
— Нельзя ли еще? Я бы сам принес.
Голос у него был охрипший, а рука, потянувшаяся за ведром, словно бы чуть дрожала.
— Я сама! У вас дорога дальняя. Подождите! Я мигом!
Лайла бегом помчалась к колодцу, с жаром вертела коловорот, рысью неслась обратно.
— Только пейте помедленнее. Чистый лед. Я пока яблоки соберу. Тихо пейте!
Лайла бежала за белым наливом, там в траве полно было переспелых, потрескавшихся яблок. На вид они уже не были красивы, но если разломить, янтарная сердцевина вся залита сладким соком и вкус такой, каким в свои детские годы, когда наступала пора яблок, ей насладиться не довелось. Лайла набрала полный подол и встала рядом с ведром. И каждый также брал из передника по яблочку и, откусив, улыбался Лайле.
— Ну, хозяюшка, таких яблок и Адам не пробовал! Тебя случайно не Евой зовут?
А Лайла качала головой — нет, нет, не зовут ее Евой, — и опять бежала к колодцу и в сад. Только раз успела спросить:
— Кто вы такие?
— Девятнадцатая дивизия.
Девятнадцатая дивизия? И Лайла хозяюшка, она их поит и угощает яблоками. Она вспомнила и о каравае, но разве тут напасешься? Дивизию больше всего мучила жажда.
Беготня с пустым ведром, цепь и коловорот, скорее, скорее, назад с полным ведром, в сад за яблоками. Жаркое солнце бабьего лета. Вот и Лайла вспотела, подмышки заливает, платье прилипает к груди и спине, то и дело вытирай лоб. Лайла дышала часто, но усталости не чувствовала. День растворился в суете, улыбках, коротких спасибо или длинных похвалах: как добра и красива юная хозяйка этого дома, и Лайла вдруг почувствовала себя счастливой как никогда прежде.
Кто-то опустил на ее плечи тяжелую руку и сказал:
— Не сердись, девочка, что отступаем. Дальше Тукумса не отойдем. Или погибнем, или разобьем их всех и тогда вернемся.
День угасал. Лайла за своими восторгами и беготней даже не подумала, что это отступление, уходят латышские легионеры, а дальше — черная неизвестность. И Лайла всеми покинута. Но думать было некогда. Она снова кинулась к колодцу. Но теперь она не только рук не чувствовала, ломило плечи. Полное ведро она теперь несла шатаясь, а собирая яблоки, слышала звон в ушах и перед глазами вспыхивали черные и красные полосы.
С застывшей на лице улыбкой она держала за углы передник и слушала слова благодарности, звучавшие все короче и короче. Теперь уже шли последние, тяжело ступая, с запавшими щеками. Лишь у одного была гладкая, ухмыляющаяся, круглая как луна физиономия. С голубыми глазами в красных, как у плотвы, ободках. Когда потянулся за яблоком, ободки покраснели еще больше, а пальцы ткнулись в низ живота.
Края передника выскользнули у Лайлы из рук, яблоки посыпались на дорогу, она отскочила за ведро. Чей-то локоть отшвырнул круглолицего.
— Прости, детка… Он один у нас такой…
Дрожащей рукой Лайла поднесла ковшик, но солдат отвернулся. Другие тоже. Никому больше не хотелось пить. Шли мимо Лайлы, опустив глаза.
Вдали показались лошади и трубы солдатских кухонь, а Лайла взяла ведро, ковшик и пошла домой.
Войти в дом не было сил. Лайла опустилась на скамеечку возле дверей, прислонилась спиной к нагретой солнцем стене. В ведре еще оставалась вода. Лайла зачерпнула ковшик и впервые за этот день напилась сама. Налила в ладошку, смочила лоб, провела по щекам. Потом зачерпнула еще, полила голову и грудь. Вода текла по затылку и лбу, на ресницах застряли капли, и у гроздьев рябины на краю двора сразу выросли мерцающие красные лучи.
На дороге стучали подковами лошади, тянувшие тяжело груженные повозки, скрипели колеса, слышались голоса. Вроде бы надо набрать воды и вернуться на дорогу, ведь и обозники небось хотят пить. Лайла потянулась к ведру, но перед глазами возникло круглое, лунообразное лицо, будто что-то снова ткнулось в живот, и рука ее вдруг отяжелела, резко заломило спину, а дыхание опять стало тяжелым, прерывистым. Нет, не пойдет она. Не понесет. Пусть берут сами.
Лайла сидела и прислушивалась к своему дыханию. Когда умолкла дорога и дыхание стало неслышным и спокойным, ее проняла дрожь. Лайла глянула на солнце, оно уже почти касалось верхушек деревьев за лесной опушкой. Лайла поднялась. Из-за боли казалось, что до колодца добиралась целую вечность. Потом обратно. И через порог.
Умом Лайла понимала, что сегодня у нее ни крошки во рту не было, что надо бы поесть. Даже заставила себя войти в чулан. Глянула на каравай. Чтобы поесть, надо было поднять болевшие руки, отрезать от тяжелого каравая ломоть, жевать. Даже рот раскрыть ей казалось слишком трудным делом. Да и не хотелось. Нет, не станет она есть.
Несколько шагов от чулана до незапертых дверей казались непреодолимыми. Пусть. Все безразлично. Комната с кроватью ближе.
Не сняв и передника, Лайла, постанывая, забралась на кровать и натянула на себя край оставленной ей насовсем старенькой попоны. О том, чтобы помыть ноги, и думать было нечего. Спать. Спать.
А перед глазами сапоги дробят гравий большака, ковшик взлетает к потрескавшимся губам, в траве тьма переспевших яблок, то всплывает, то исчезает гнусный облик лунолицего. Казалось, что кровать раскачивается, и становилось дурно, вот-вот стошнит. Приходилось открывать глаза, это немного помогало, но глаза не хотели оставаться открытыми, закрывались, и снова сапоги, яблоки, круглолицый, тошнота.