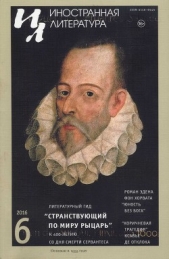Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То время давно прошло. Однажды утром в постели лежал мужчина, белый как известь. Из-за этой смерти замок ускользнул из сознания мальчика {397}. — Мой обескураженный плач наверняка объяснялся не только тем, что внезапно обнажилось прошлое моей крови. Не одна только тоска по дому принудила меня заплакать. Я вдруг подумал о своих исчезнувших предках как о живых людях. Они определенно были не лучше и не счастливее меня; — но сильнее. Они полностью реализовывали свои природные задатки, потому что обладали волей. Они не стыдились себя и не роптали на судьбу. Они приветствовали жизнь, отвечая ей дикарским согласием {398}. — Ах, почему доверие, с которым мы относимся к одиночеству, так позорно разрушается! Мы отваживаемся ступить в область Безграничного, Неведомого; мы уверены, что никакой сюрприз не застанет нас врасплох. Однако вместо Неожиданного нам навстречу выходит Известное. То человечество, которое, как мнилось, осталось далеко позади, оказывается перед нами. Мы распознаем круг, по которому прошли наши ноги. Он, вместе с тем, лабиринт нашего происхождения и предназначения, в который мы мало-помалу погружаемся. И смятение наших чувств и мыслей… Плоть моего умершего прадеда остывала в замке; я же с каким-то матросом шатался по всему миру. Все так, как оно есть. Гложущая боль, исходящая от простого высказывания…
Это бесконечно мучительное, не поддающееся запруживанию чувство часто овладевало мною. Иногда я спасался от него тем, что предавался бессмысленным желаниям и грезам. Большие промежутки времени заполнялись представлениями, относящимися к сфере невозможного. Счастье, животное и духовное, в котором мне было отказано, втискивалось в мысленные картины — и я вглядывался в них ранеными глазами.
Начинались повторения. Ведь и наше бытие наполнено повторениями. Бесплодное и бесцельное хождение по улицам. Слабое томительное желание: стать причастным к делам и занятиям других людей. Все тугие остроконечные девичьи груди, вырисовывающиеся под грубой тканью или едва прикрытые, которые прежде попадались мне на глаза. Множество человеческих лиц, в которые я погружался. Грехи, которые я когда-то был готов совершить, но не совершил, а потом днями и неделями испытывал жгучее сожаление, что не сделал этого {399}. Возвращения во мне животного начала; песня-похвала убогости, где говорится, что для бедных нет разницы, чье белое тело оплодотворить: лишь бы выиграть еще час, хоть один час, когда не существует ни голода, ни пресыщения. Мол, бедные не знают ни стремления завоевать чью-то любовь, ни разлуки. — Тысячи мучительных и жарких просьб, обращенных к Мирозданию. Наша беззащитность перед этим пространством, полным мерцающих звезд. Возможность опуститься на луговую траву. Готовность к печали, когда ты попадаешь в большие леса. — И жажда возмездия, когда в груди у меня сгущался мрак, потому что я, казалось мне, видел, как извращаются простые порядки: видел, что справедливость растоптана, а триумф лжи сверкает на фоне жертв бойни… Это ужасное зерцало реального человеческого мира! Разбить бы его. Искоренить всех бестий. Я этого хотел. Атаковать бы со спины — и убить — этих охотников на лис и на тихо крякающих в камышах уток! Убить многих, многих, многих… Я думал об этом. Брался судить кого-то и выносить смертный приговор посреди всей этой нашей убогости и беззащитности! {400} И еще желание: каким-то чудом стать великим героем на службе ближнему и многим другим людям, похитить где-нибудь огонь спасения {401}… Эта моя жизнь, которую никто всерьез не проклинал — разве что мой отец, когда она стала непонятной для него; которую никто не благословлял — разве что моя мать, потому что я был ее сыном… Любую другую плоть, вышедшую из ее чрева, она благословляла бы столь же пылко…. Эта моя жизнь, не сотворившая никакого зла, которое не было бы вскоре забыто, — но и никакого добра, которое не забыто уже сейчас… Я оправдан, как и любой другой, кто незаметно вырос и уходит отсюда, когда завершается его срок. — Конечно, у меня бывали и радостные грезы. Порой, когда я клал руки на клавиши рояля, мне казалось, что я способен создать великое. Я вскакивал; опьяненный своими представлениями, слышал последовательности аккордов, плетение голосов. Звучание усиливалось — от разреженных, едва выдыхаемых звуков до строгой неумолимости коротких трубных сигналов. Захваченный ими, я склонялся перед этим внушением свыше и теперь чувствовал свое пульсирующее бытие; свое достояние, уникальное: дарованную мне благодать. Да, мои внутренние силы намеревались не просто играть со звуками, не просто с помощью законов Случая исчерпать все возможности гармоний и их развития: я грезил о том, что стану новым, еще лучшим Рамо, то есть мастером, принуждающим неизменный закон абстракции, в сфере гармонии, к такому выражению, которое, будучи неслыханно смелым и чистым, становится соответствием Вечного, как мы его понимаем {402}, — чего добивались лишь очень немногие. Одни этого достигали, леденея от восторженного содрогания; другие — играя с улыбками умерших: улыбками, которые уже при первых признаках разложения лишаются поначалу свойственной им застылости.
Так вот: в этих тетрадях, когда мне случалось затрагивать музыкальные проблемы, я часто употреблял слово «гармония» — словно печать или символ, отсылающий к некоторым композиционным особенностям. В таком слове содержится невольная ошибка, искажение; по сути же — ложь: ибо мой дух не только отвратился от гармонии, как ее обычно понимают, но совершенно в ней не нуждается. Я как-то уже говорил, что являюсь приверженцем более старого и жесткого пласта музыкальной выразительности {403}. Это утверждение краткое, но во многом верное. Потому — или без всякого Потому — я хоть и разбираюсь в гармонии достаточно профессионально, но все же мои знания о ней не фундаментальны. Одно я знаю наверняка: поводом для моих работ — и экспансивных, и более глубоких (полагаю, я вправе их так назвать) — всегда служила и служит моя личная жизнь. Мой страх, моя печаль, мое одиночество, состояние моего здоровья, внутренние кризисы и периоды равновесия, особенности моего чувственного восприятия и моей любви, моя одержимость ею — все это формировало, среди прочего, и мои музыкальные мысли и впечатления. Искусство вырастает на почве эроса; единственно по этой причине ему присуща красота. Для меня внутренняя задача, кажется, с самых первых шагов состояла в том, чтобы переводить выражения моего существования на язык абстракций, а не патетики. Свойственные мне недостатки проявляются в жесткости строфических образов, в непродуктивности некоторых созвучий, в скучных длиннотах; а достоинства — мое смирение, моя подлинная, не невротическая нежность — в гибкости, в постепенном затухании звука, в экспансии, в графической и гармонической однозначности концепции. Это закон миров: что перевод на язык абстракции даже физических переживаний, связанных с функционированием внутренних органов, может быть благозвучным. Правда, чем больше музыка отдаляется от пафоса, тем труднее воспринимать ее как прикосновение некоей дружественной нам силы. Слово портит музыку. — Песня, конечно, захватывает, а многоголосое пение порой потрясает. — Но священным прибежищем музыки остаются бессловесные инструменты. Только мальчишеские голоса составляют, быть может, благодатное исключение. В них юность — это бытие-без-могил — сверкает как непреходящий смысл, дарованный живым существам. Стариков Мироздание не любит; зрелых мужчин, вступающих с ним в борьбу, оно повергает в прах. Подлинная надежда процветает лишь в путаных мыслях мальчиков. — —