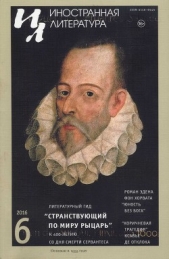Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

И еще чуть позже — может, через год после этой попытки — квинтовый шаг переходит в хроматическую структуру (не в двенадцатитоновую, конечно, но в такую, которая становится первым жестким одеянием, первой маскировкой известного, не желающего, чтобы его узнали).

В проведении темы сразу же обнаруживается своего рода упорядоченное дикарство: небрежное поспешное щегольство, которое едва ли можно считать характерным для этой почтенной тональности. (Я отыскал в памяти очень раннюю параллель к такой структуре: некую Fuga contraria, которую я написал в тринадцать или четырнадцать лет и которая никак не может иметь отношения к Тутайну; зато она может относиться к Конраду, которого я теперь уже не помню. Были ли эти двое похожи? Состояли ли из одной и той же субстанции, представляли ли для меня одну и ту же цель? Золотисто-коричневый блеск моего спасения, во плоти и в духе?)

Ноты (1–3). {409}
— — — Каждый дальнейший шаг ведет — я сейчас соображу, как это выразить: в ожидаемо Неожиданное, в подлинную жизнь музыки, к удивлению и созвучию. Закон в своей наивысшей полноте не предусматривает — для отдельных элементов проистекания и воздействия — ни определенного времени, когда они должны появиться, ни предопределенной длительности… и потому от того и другого сохраняется нечто, постоянно меняющееся: хаос бытия.
Только с большим трудом можно распознать эту тональную основу в позднейших темах, из которых я строил более жесткие, полные заговорщицкой одержимости сочинения периода моего одиночества и отчаяния, моей бесполезной теперь любви, моего разрыва с Богом {410}. Уже ритмические вариации внутри однородных структур становятся маскирующим покровом. Выход в двенадцатитоновую или целотонную мелодику и кажущаяся неприкаянность гармоний еще больше затемняют картину. Мое стремление и в музыкальных высказываниях быть предельно точным, то есть ничего не утаивать — не забывать, рассуждая про лицо, о внутренностях, — привело к появлению у меня странных экспансивных форм, к тотальному воздержанию от лжи и условностей. Я, наверное, много грешил против теории с укоренившейся в ней сегодня избирательной ученостью и против традиционных представлений о гармонии — но не против ритмической жизни музыки и не против волшебного ландшафта полифонии. — Мне самому важно, что я вновь и вновь убеждаюсь: устройство моей любви и моего мучительного тоскования всегда остается тем же. Как обычный человек, я мало на что годен. Мое частное бытие продолжалось — могло продолжаться — лишь потому, что музыка, в отличие от поэтического слова, ничего о нем не сообщает: становясь жалобой, это бытие теряет конкретность. Все раны, когда-либо нанесенные моей душе, снова начинают кровоточить, когда во мне пробуждаются те ранние строфы, которые все носят одно имя: Тутайн — — или Конрад —. Я узнаю этих — этих двоих, этого одного человека — во всех мелодиях, когда-либо воспользовавшихся мною {411}. — — — Но если во мне живет только одна эта краска, одно имя, одна музыка — только музыка одного человеческого лица, одного тела, одной саднящей нежности —: почему тогда я не положу конец своей жизни? Почему позволил Тутайну так намного опередить меня на пути превращения в тлен? Чего еще хочет моя плоть? Для чего — экспансия во всё новые вариации? Или я настолько жалок, что боюсь смерти? — Почему я еще не принял решения в пользу самоубийства?
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Я искал такие слова и сюжеты, в которых — неявным образом — были бы заключены и моя судьба, и моя неотчетливая вера. — Думаю, Моцарт тоже именно так нашел своего Дон Жуана. Говорят, маэстро сочинил суровые, отдающие пустотой, протяженные звуки, относящиеся к убитому Командору — эти подземные зовы тромбонов, — той ночью, когда он вернулся домой с сомнительной пирушки. В музыке чувствуется страх перед ночным кладбищем, ощущение покинутости. (Все творчество этого великого и преследуемого несчастьями человека пронизано такого рода приступами страха.)

Ноты (1). {412}
Но всего за несколько секунд дух молодого творца взбирается вверх по всем квадрам-ступеням пирамиды. В глубочайшую униженность «я» вплетается ощущение триумфа. А чтобы никто не сомневался, что говорит здесь сам Вольфганг Амадей, Дон Жуан насвистывает моцартовский мотив — и при этом, поскольку он существо с кишками, ест что-то, не обращая внимания на кладбищенских червей. Можно ли вообразить менее невротичное музыкальное высказывание, чем эта речь уже приближающегося к гибели героя?

Ноты (2). {413}
Когда холодный и гулкий голос, один раз уже сотрясавший воздух кладбища, раздается во второй раз и звучит это властное требование — «Кайся же!», то есть: «Измени свою жизнь!», — гордый музыкант бесстрашно отвечает: «Нет!» {414}
Я не стал говорить Льену, что последний смертельный приступ, связанный с болезнью почек или надпочечников, вероятно, настиг Моцарта в трактире. Наверное, это был один из тех тяжелых обмороков, что предшествовали кончине композитора. Незадолго до приступа, в тот же вечер, Моцарт беседовал с фактотумом Йозефом Дайнером, который служил и ему {415}. Они вместе ужинали в «Серебряной змее».
— Я чувствую озноб, который не могу себе объяснить… Дайнер, допейте мое вино и приходите ко мне завтра. Зима началась; нам нужны дрова.
Моцарт, видимо, ушел из трактира, чтобы согреться. Он следовал требованиям своего организма. Эти требования до последнего остаются нашей судьбой. Но другие люди не считают их извиняющим обстоятельством. Моцарта, если и не ступившего еще на порог смерти, то только что пережившего тяжелейший приступ, случайные прохожие принесли домой на руках; а может, посадили в фиакр, как иногда поступают со своими клиентами проститутки, чтобы не беспокоить по пустякам полицейских. (Мне приходится самому заполнять лакуны в дошедших до нас сведениях.) Этим отчасти и объясняется, почему столь ужасными были последние дни, проведенные им в собственном доме. Объясняется неприязнь Констанцы к умирающему, поразительное равнодушие к нему со стороны знакомых, даже довольно близких. (Среди них попадались совершенно одиозные личности.) На следующий день Дайнер застал хозяина лежащим в постели. Руки и ноги у больного отекли, начали терять подвижность… Моцарт скончался в час ночи пятого декабря. Уже шестого декабря он был похоронен. Констанца не нашла нужным заказать для могилы хотя бы самый дешевый, еловый, крест… после того как умершего поспешно зарыли, словно собаку. Эта женщина, пережившая Моцарта, так долго находившаяся с ним в близких отношениях, не простила свои обиды даже погребенному телу. Посмертную маску мужа она сломала некоторое время спустя. Говорят, что его лицо очень быстро сделалось неузнаваемым. Он внезапно отдалился от всех — и от себя самого. (Мне кажется, этот отчет о кончине маэстро — не официальный, а вышедший из-под пера одного вполне заурядного писателя {416}, — проясняет, по крайней мере, причины ненависти и истеричности Констанцы, ее отнюдь не заурядной безжалостности по отношению к умершему. Что мы должны были бы о ней думать, если бы у нее даже не имелось повода для такого поведения?) В конце «Дон Жуана» оставшиеся в живых сварливо поют секстет надгробных проклятий, как будто самим им никогда не приходилось оступаться. Однако звуки оркестра, пронизывающие этот неумолимый земной приговор, возвещают оправдание от всех грехов и заблуждений, налагаемых на нас устройством нашего организма {417}.