Запах искусственной свежести (сборник)
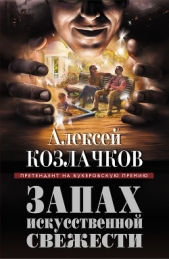
Запах искусственной свежести (сборник) читать книгу онлайн
Ты искал лампу с предгрозовым, преддождевым светом. Хотел включать ее, когда станет невыносимо жить, и наслаждаться ее теплыми, словно пропущенными сквозь янтарь лучами. Искал и вдруг вспомнил своего друга-фотографа, истинного художника, который бросил все и уехал далеко-далеко в поисках такого же прекрасного света. Уехал – и не вернулся. Трагически погиб в погоне за мечтой – в нищете и одиночестве. И тогда ты задумался: а не напрасной ли была жертва? Стоила ли она мечты? Может, лучше остаться здесь, в невыносимой жизни, чем, сражаясь за идею, вдруг погибнуть и оказаться там – в непостижимой смерти? И поразмыслив, ты купил обычную галогенную лампу, функциональную и недорогую. А свет… Зачем этот свет?..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Несмотря на то что ситуация угрожала взрывом, я не мог оторвать глаз от чтения. Дальше шло мое любимое:
Дочитав, я все же не сдержался и засмеялся. Вся подборка была озаглавлена строчкой «В карман власти трос пусти» с невероятно удачным перебоем ритма и скоплением согласных: «т – р – с – п – с – т», – меня всегда передергивало от эстетического удовольствия. Подзаголовок публикации тоже был подходящий: «Пушкин – рядом не валялся». И рубрика: «Народ не безмолвствует». Стихи предваряла моя заметка, я и ее пробежал глазами, поскольку эта публикация была уже делом давним, и не мог унять хохота. Поэтке было 82 года. Стихи стала писать на пенсии и в основном на такие вот коммунально-бытовые темы: кран потек, мэрия окопалась, управдом – скотина, зажрался, кошка родила пятерых котят, соседка – стерва, мужиков водит каждый день, по ночам гудят. Своего рода народное радио в стихах. Выступала перед пенсионерами на лавочках, в основном – перед собственным подъездом, поскольку ноги уже плохо носили старушку. Иногда собиралась аудитория с трех-четырех лавочек, ведь, как я понял из ее же рассказов, компании пенсионеров тоже как-то делятся и соперничают, как и подростки. И если подростки делятся по районам и улицам, то пенсионеры «по лавочкам». Словом, к ней на слушания приходили даже посидельцы с уж совершенно враждебной лавочки по ул. Осипенко. Это ж хрен знает где – идти почти полкилометра! Это был реальный успех, почти слава.
Об этом я и написал в своей заметке, которая, вместе со стихами, представляла, скорее, репортаж с места события, а не литературную публикацию. И это был, со всеми этими оговорками, все же единственный случай публикации, да и про него я совершенно забыл именно потому, что у меня в голове эта публикация изначально проходила по графе «репортаж», а не «наши таланты». Репортаж как репортаж, только с цитатами.
Я понял, что не смогу ей сейчас объяснить всего этого. Она подумает, что я приплетаю ей какую-то невероятную «отмазку», обидится смертельно и проклянет меня навеки.
Черт, все же мне не хотелось, чтобы первая любовь прокляла меня навеки. Надо как-то выкарабкиваться. Ну, что там, какие варианты? Ну, допустим, он пишет хорошие стихи про любовь, например, или про что иное, про что пишутся хорошие стихи… Кто он по профессии? Курсант Высшей школы милиции… «Если кто-то кое-где у нас порой…» Про романтику милиционерской службы. Может, ко Дню милиции приурочить публикацию? Но до него еще долго – в ноябре, а сейчас май, и она, видимо, хочет немедленно, до ноября она меня размелет в мелкую муку. Я представлял, как будут выглядеть тягомотные стихи о пользе милицейской службы на полосах моей газеты, где все материалы, кроме новостей, подавались с известной долей издевки над городскими и губернскими властями и вообще в ироническом ключе. Если они даже окажутся хорошими, то все равно это будет совершенно неуместно, а если плохими – тем более. Да и в любом случае нас изнасилуют местные графоманы, которые только и жаждут прецедента. И так-то вся редакция завалена «народным творчеством» и анонимными доносами, а теперь еще к стихам старушки будут добавлять в качестве аргумента и стихи милиционера. Черт, черт! Надо все-таки что-то придумать, хотя бы оттянуть решение.
– Ну, хорошо, Ириша, ты меня застрелила, убила наповал. Но поверь, я вовсе не собирался тебя надувать, это действительно единственная публикация, больше не было. Я и забыл про нее. И это, как сказать… ну, это не вполне стихи что ли, это э-э-э…
Тут я не нашелся, как это определить для нее, а она понимающе перебила:
– Я понимаю, мой сын пишет гораздо лучше.
– Ну хорошо, хорошо… Давай я возьму домой и посмотрю. А потом что-нибудь придумаю. Позвонишь мне, например, в конце следующей недели.
– У меня нет двух недель, – сказала она, – я зайду к тебе через три дня, в пятницу.
Она почувствовала мою слабину и навалилась всем своим былинным бюстом, работая им как лебедкой, – бессмысленно было даже попытаться увильнуть от встречи…
– И еще, – продолжала она серьезным тоном, – я хочу тебе сказать одну вещь, наверное, это надо было сказать сразу. Я обратилась к тебе не только потому, что я тебя знаю. Тут много причин. Я не могу тебе даже всех рассказать. Просто мой сын очень любит твою газету, всегда ее читает и удивляется, как это ты никого не боишься. Я тебе не льщу, а просто говорю правду.
То, что она не льстит, было почему-то сразу понятно. Я молчал.
– Так вот, когда я ему сказала, что знаю тебя с детства, он очень удивился, сначала даже не поверил, а потом очень обрадовался. А когда еще рассказала, что ты был в Афганистане, мой мальчик теперь думает и говорит только о тебе. Дело в том, что он был в командировке в Чечне и там всякого навидался и приехал другим человеком. Он там даже был ранен, правда, легко, уже все зажило. Это стихи о войне и о его товарищах. Ты же знаешь, как это важно для него и для его товарищей, чтобы про них было написано стихами. Он говорит, что только ты можешь это понять, ты единственный в этом городе. Поэтому он очень хотел бы напечатать стихи именно у тебя.
В руки мои и ноги натек жидкий цемент, а теперь еще, вместе с тоскою, наливалось понимание того, что им действительно был нужен только я. Больнее струны она не могла найти во мне, чтобы побренчать на ней… Я действительно понимал, как это важно для ее сына, а особенно для его товарищей, как они от этого станут сильнее и увереннее в себе, как у них от этого может даже повыситься, например, меткость при выцеливании врага или стойкость в условиях, когда стоять и терпеть уж не будет никаких сил, или, по крайней мере, будет чувство, что о них кто-то знает и помнит, а их летописец, миннезингер, вот он, мать твою, рядом ползет… он ничего не забудет. Кроме того, еще я знал, а она пока нет, да я ей, наверное, и не скажу, что этот случай со стихами ее сына напоминает мне одну неприятную историю: однажды я уже отказал при сходных обстоятельствах в публикации одному своему очень близкому другу, бывшему однополчанину, подполковнику в запасе, ни с того ни с сего вдруг расписавшемуся какой-то придурковато-патриотической ахинеей и тоже пожелавшему напечатать ее непременно у меня в газете, после чего он мне перестал звонить. И мне даже думать об этом больно, поскольку, поскольку… эх, да что там говорить! – он был мне даже больше, чем родной. Если бы я был, например, охранником какого-нибудь банка или его директором, то я легко пошел бы для него на преступление, если бы он только сказал, что это его спасет. Скажем, я открыл бы там какие-нибудь банковские закрома и отсыпал бы ему этих самых денег, сколько надо для окончательного счастья или спасения, и не испытывал бы при этом угрызений совести. А здесь я, как ни вертелся, так и не смог решиться напечатать его патетическую злобу на всех и вся, едва утрамбованную русским синтаксисом, – и даже не только из-за того, что эти высокопарные патриотические сопли бросили бы тень умственной отсталости на меня самого, издание и моих коллег, а потому еще, что я не хотел выставлять идиотом своего близкого друга, пусть даже он этого и не понимал, а, напротив, считал свои сочинения необыкновенной удачей.

























