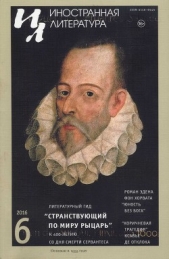Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Неожиданно Аякс спросил, нравится ли мне Олива, чувствую ли я ласковый поток чувственности, который сейчас нахлынул на нас. — Я заметил, что его лицо периодически вспыхивает: будто небо, озаряемое в душные вечера неверным светом далеких молний. Хотелось ли ему ощутить на губах первые капли ревности? Или в голове у него мелькнула отвратительная и порожденная отчаянием мысль — взять на себя роль сводни, навязать свою подружку мне?
— Ну конечно, — сказал я, — Олива мне нравится…
Он пристально посмотрел на меня. Тревожное свечение его лба сменилось затмением. Но какое-то решение, у него в черепе, целиком и полностью уничтожило эти так и не проявившиеся намерения. Грозовые облака поднялись вверх и рассеялись.
— Она роскошная девушка, — сказал Аякс. — Чтобы убедиться в этом, не надо будить завистливых богов. Правда ведь, иногда возникает потребность поднести своему счастью зеркало?
Мне захотелось сказать, что Олива могла бы и впредь оставаться с нами. Но я не высказал это желание вслух. Побоялся пробудить в Аяксе еще какую-то неведомую силу. Я признал, что Олива мне нравится. Уже это короткое признание чересчур многозначно. Если я буду неосмотрительным, его можно обратить против меня. Так что я и само желание в себе подавил.
Олива попрощалась со мной. Когда она вышла во двор, на нее нахлынул поток чувств. Она разрыдалась горько, как ребенок. Аякс ее обнял, поцеловал, повел прочь. Он доставит ее к брату, в Крогедурен. Он собирается занять там половину дома. Они организуют свое хозяйство. Аякс обратится к совести рыбака, так он выразился. Он хочет найти акушерку, чтобы та ощупала живот Оливы. Аякс настолько ревнив, что это может произойти лишь в его присутствии. «Ведь никогда не знаешь, что взбредет на ум этим мудрым старушенциям и какой вздор они начнут нести, — сказал он. — Рядом должен стоять кто-то, кто вовремя ударит их по губам». — — —
Полнейшая тишина в доме — она продержится целый день — обостряет мои чувства, пробуждает память. Толща последних недель остается непроницаемой. Я скучаю по Оливе. Я в самом деле ее полюбил. Но я себя точно не выдал. Мое признание не будет иметь последствий. Я не собираюсь выдвигать какие-то неоправданные требования. Я просто буду мягче относиться к Аяксу, потому что эти двое любят друг друга; вот единственное извращение, исходящее из моего сердца.
Я, по правде говоря, не вполне освободился от опасений. Мощные сдвиги в душе Аякса тревожат меня — эти зоны хаоса, расширяющиеся сразу по многим направлениям; его презрение к себе; расчетливое любопытство; подземелья его доверительности; его умение мастерски держать язык за зубами; его откровения — глубокие, но проникнутые усталостью от жизни; его чувственность, алчущая добычи и вместе с тем простодушная; его неистовая жадность к обретению собственности; его ненасытность в удовольствиях; его всегдашняя готовность пожертвовать собой; ранимость — боязнь, что его не признают или что он не понравится; неумение проводить различие между давать и брать; часто возникающее у него представление, что он — одновременно труп и живой человек, что он отвечает за себя, но отдан на произвол судьбы: должен выдерживать монотонное унизительное противостояние и приветствовать легкую победу преступления. Человек с прекрасными задатками, который тащит за собой черные цепи двусмысленности… У него нет никаких иллюзий относительно жизни, и в этом его беда. Чего я могу ждать от него? От человека, который зол на себя и вместе с тем, как ни странно, до краев заполнен собой? С какой стороны я сумею проникнуть в него, если мне захочется ему помочь? Разве его потакание себе не вышло, уже давно, за рамки начальной стадии? То, что мне часто кажется обдуманным планом, намерением или хитростью, не есть ли это виртуозный, за десятилетие превратившийся в привычку прием, позволяющий ошеломить другого, заставить его споткнуться, — прием, из-за которого поступки и чувства Аякса еще в детстве лишились простодушной непосредственности? — Он ведь на собственном опыте узнал, что даже целомудренной девочке (а почему его, мальчика-подростка, надо судить строже, чем таких порхающих бабочек?) не чужды порочные мысли. — Может, тогда и сформировался перед его внутренним взором стойкий образ себя самого, не подверженный изменениям, — образ, давший ему представление о зримом облике некоей личности, от которой он уже не в силах себя отделить. И что же, этот зримый облик мало-помалу стал сильнее его самого? Или дело обстоит хуже: тот волчий сон есть признак не поддающейся изменению реальности, которая уже полностью овладела им? Бронзовый гул судьбы — подобный звону колоколов с высоких башен, — неужели он уже звучит над Аяксом, этот ужасный, незабываемый гул, наполненный всеми проклятиями и обещаниями, от которых больше нельзя скрыться? — — Так — именно таким образом — и жизнь Тутайна внезапно сделалась бесповоротной — а вместе с его жизнью и моя.
Я бы просто стряхнул с себя Аякса, если бы чей-то непререкаемый, убеждающий завет, плотский и каменный, который никак не может быть фальшивкой, не угадывался в его глазах, в верхней половине лица и даже в загадочно-высоком своде ротовой полости. И еще у него такой красивый, глубокий голос…
Мы с ним должны предпринять еще одну, последнюю попытку. Я полон ожидания и готов противиться возможной беде. В конце концов, советы, которые нам дает разум, так же ненадежны, как лекарства, которые приносят облегчение в лучшем случае лишь половине больных.
Одиночество на протяжении одного-единственного дня, какая же это ценность! Дух развертывает себя, заполняет пустоту… Это не однообразная покинутость, не гнетущее отсутствие ожиданий, не ничтожность жестоких повторений. Я хочу использовать эти часы, работая над концертной симфонией, которую вынужден был так надолго забросить.
Аякс вернулся с прогулки лишь поздно ночью. Он был в хорошем настроении. Он заметил, наверное, что в моей комнате еще горит свет. Во всяком случае, он толкнул дверь и застал меня только что улегшимся в постель. Веселость словно подсвечивала весь его облик, это длилось минуту. Потом радостные глаза, гротескные движения рук, которые от долгой энергичной ходьбы немного опухли — вены проступили явственнее, чем обычно, — приятная подвижность рослого, но гибкого тела несколько потускнели. Аякс присел на край кровати, схватил меня за руки, встряхнул: у него возникла потребность ласково встряхнуть меня.
— Теперь мы снова начнем нашу братскую жизнь, — сказал он, — вопреки этим попыткам что-то для себя выторговать, посредством которых хотели друг друга обмануть. Мы оба знаем, чего можем добиться благодаря усердию. Все бытие человека — это работа; и счастье приходит, когда он знает, с какого конца к ней приступить. Большинство людей прикладывают свои силы там, где это не может принести никакого выигрыша. Мы с тобой обладаем тем преимуществом, что одна-единственная капля интуиции обеспечивает нам воодушевление, необходимое для начала. Позже мы становимся такими же почтенными работниками, как они все. — А теперь вставай и выпей со мной коньяку или что там у нас найдется, чтобы подкрепить нашу обоюдную связь {282}: эту товарищескую любовь, эту еще только зарождающуюся жизнь нашего сокрушительного или волшебного эксперимента.
Он вытащил меня из постели, набросил мне на плечи халат и подтолкнул сзади, направив в сторону гостиной. Там усадил в кресло, накрыл мне колени овечьей шкурой, разворошил кочергой угли в печи и поставил на стол коньяк.
— Акушерка, я едва поверил своим глазам, — начал он, — оказалась молодой дылдой, не старше тридцати лет. В очках. Оливе пришлось раздеться, и тогда эта высохшая жердь ухватила ее за живот, принялась ощупывать… как скотница, которая щупает правый бок коровы, чтобы убедиться в наличии теленочка. Акушерка, без каких-либо затруднений, обнаружила интересующий ее комочек плоти и заявила авторитетно, как барышник, который определяет возраст лошади не по зубам, а «по совести»: «— на пятом месяце». После чего завела проповедь о священном долге материнства, от которой нам, слушателям, сделалось не по себе…