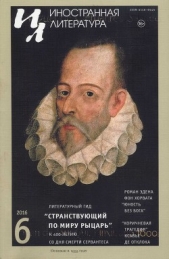Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он не улыбнулся; он лишь попытался улыбнуться.
— Плоть, по крайней мере наша плоть, порой представляется нам отвратительной, — продолжил он. — Олива, короче говоря, оказалась в роли жертвы, и я ничем не мог ей помочь. Акушерка, которая в свои тридцать успела вытащить на свет не меньше тысячи младенцев и не верит ни в какие сказки относительно того, как они попадают в материнское чрево; которая, еще прежде чем обмоет новорождённого, говорит, что он вылитый отец (как если бы она знала, кто был отцом), — такая акушерка чертовски напоминает могильщика. Олива хороша собой — о, она прекрасна, как все нимфы Лукаса Кранаха {283}, вместе взятые, и весь «Страшный Суд» Ханса Мемлинга {284} в придачу, и все прекрасные изображения Евы и Венеры, созданные Джорджоне и сотней других живописцев {285}, — но перед взглядом этой очкастой старой девы, освобождающей других женщин от их младенцев, не устояло бы даже мраморное тело любой из несравненных олимпийских богинь. — В общем, от щупалец этой пифии с медицинским образованием мы ускользнули… чуть более трезвомыслящими, чем прежде, чтобы не сказать — уязвленными в своей гордости…
Он обратил на меня пустой, чуть ли не испуганный взгляд.
— Мы все когда-то были таким комочком — почти бесцветным, скорее слизистым, нежели прикрепленным к костяку; чем-то лишенным души; чем-то, что только растет и развивается; чем-то слепым и глухим, что даже не имеет рта — в отличие от гусеницы, сидящей на капустном листе. А по прошествии какого-то времени мы завершим наше превращение в две горстки праха или пепла. Удивительно, сколько шумихи мы устраиваем из-за укладывающихся в этот промежуток пятидесяти или шестидесяти лет! Почему, собственно, нам-подобные принесли в мир разделение на добро и зло {286}? Это самое человеческое из всех деяний, совершавшихся здесь-внизу, к тому же самое глупое, разрушившее нравственность Универсума. Дьявол стал могущественным лишь после того, как человек придумал его. «Как сильно он похож на отца, а все же в нем можно распознать и черты матери!» Болтовня тетушек, послужившая руководящим принципом для евгеников… Что наша душа имеет сходство с неким Третьим, которого небезызвестный трибунал назовет идентичностью с нами самими и который, однако, нам так же чужд, как отец и мать, — с проникшим в нас, с уполномоченным Судьбы, с бессмертным, который нами пользуется, с тем Неотвратимым, которому ты посвятил великую симфонию {287}, — кто о таком говорит? Пока наше сердце не остановится, он обитает в нас; Владыке небесных воинств он представится как наша персональная смерть, как только завершит свою работу — избавится от нас — и явится в Царство духов, чтобы получить новое задание: подчинить себе новую плоть, рвануть к себе слизистый комочек, пребывающий в чреве одной из матерей. — А нам в возмещение этого страшного изнасилования достанется только нехорошее удовольствие {288}…
После того как он закончил свою мысль, радость вернулась в его глаза.
— Не нужно этого бояться, — сказал он. — Один раз умереть — лучше, чем пятьдесят раз переживать предощущение смерти.
И поднял рюмку в знак того, что я должен с ним чокнуться.
— За наше братское единство! — сказал. Я все еще медлил. Обдумывая, что бы мог значить такой тост. Прежде Аякс никогда не говорил о братстве-близнячестве {289}.
— Да, — наконец коротко ответил я.
— Два монстра должны обняться, — произнес он с пафосом.
Я поднялся с кресла. Овечья шкура соскользнула на пол. Мы положили руки на плечи друг другу.
— Я тебе нравлюсь? Нравлюсь? — кричал он у меня над ухом.
— Аякс, — сказал я, отступив на шаг, чтобы намекнуть на свое внутреннее сопротивление, — боюсь, что мне из-за этого придется страдать.
— Из-за чего? — спросил он.
Я ему не ответил.
Он просто отмахнулся от этой секунды: обошел стол и снова наполнил рюмки.
— У тебя дипломатический талант, — заметил он, как бы подводя итог сказанному.
И вновь заговорил об Оливе и ее брате.
— Ты легко поймешь, что мы больше не можем терять время: свадьба должна состояться скоро. Я передал Ениусу Зассеру прогноз акушерки, чтобы он побыстрее принял решение и уступил нам, нуждающимся, половину дома. Мы с ним договорились. Исполненная смысла стена обеспечит необходимое разграничение между братом и сестрой. Две из тех комнат, что достанутся нам, выходят окнами на бухту. Мы сможем иногда приглашать тебя погостить у нас, и ты будешь смотреть сквозь сад на море. Все урегулировано наилучшим образом. Я уже обращал к будущему столько хороших мыслей, что радуюсь, как будто они осуществились. Ты наверняка поднесешь нам к свадьбе небольшой подарок: к примеру, две дюжины бутылок вина или напольные часы. Олива сама заговорила о напольных часах. И даже выбрала угол, где они могли бы стоять. А я бы предпочел маленький ящик с винными бутылками. — Ты видишь, мы с ней уже сосредоточились на деталях. Для меня это непривычно: говорить с такой определенностью о будущих событиях. Меня такое пугает; но девушки и женщины гораздо мужественнее, чем мужчины. Они говорят, будто получили на сей счет обещание от ангела: я рожу ребенка тогда-то и тогда-то. Они имеют возможность заглядывать в будущее на девять месяцев вперед. В конце концов они выдумывают всю свою последующую жизнь. Мол, родится столько-то детей. Их надо будет растить. Поначалу прикладывать к груди. Потом кормить с ложечки кашей. Дети вырастут… — Они, эти девушки и женщины, — лучшие животные, чем мы, мужчины. Им ведома лишь одна авантюра: любовь. И они… в большинстве своем… выдерживают это испытание, даже при очень трудных обстоятельствах. Они ведь так уверены в своих чувствах. Мы же, в отличие от них, — многоречивые дилетанты. Они, будто бы такие болтливые, никогда не выдадут любовника, который их обрюхатил, — если сами этого не захотят. Они неумолимы в своем молчании — когда хотят молчать. И говорят с ужасающей откровенностью, когда мстят кому-то. Они прекрасно разбираются и в любви, и в ненависти. Они не знают, что такое дружба: эта жиденькая приятная любовь, которая, когда заканчивается, оставляет после себя лишь досаду — смягченное неодобрительное суждение о том, кто нарушил верность…
Он еще много чего говорил. Высказывая суждения, близкие к банальностям: не удивительные и не глубокие, не ложные и не правильные. Тем не менее у меня сложилось впечатление, что он обижен и старается скрыть оставшуюся от ранения ссадину {290}. Другой причины его болтливости я не обнаружил. Я уверен, что, вопреки показной веселости, на душе у него было тяжело. Он определенно не планировал покинуть Оливу; но боялся, что окажется прикованным к своим чувствам. Он ведь и понятия не имел об их длительности. Собственная чувственность порой представляется ему бесчеловечной, совершенно лишенной зримых образов, чем-то даже меньшим, нежели соблазн как таковой. Он не черствый человек, ни в малейшей степени. Он не пытается сделать свою совесть непробиваемой и не верит в искушения, которые могли бы лишить его покоя; он лишь испытывает отвращение к страданиям, и мучительное сопротивление Неизбежному было бы оскорбительно для его разума. Ему часто хочется жертвовать собой, потому что от души это требует меньше всего усилий. Чувство непреодолимого отвращения, очевидно, так же чуждо ему, как и преувеличенный энтузиазм. Дерзкие представления о любви, свойственные столь многим, заменены в нем чисто телесными притязаниями, направленными не столько на конкретную цель, сколько на заранее спланированное бесчинство как таковое. Он любит сладострастие, не будучи порочным; однако оставляет за собой право быть другим, чем кажется: тем, кого можно будет по-настоящему рассмотреть, когда рассеются тучи. Он тоже, как любой человек, надеется, что относится к числу избранных. И ходит по искривленным путям, как все мы {291}.