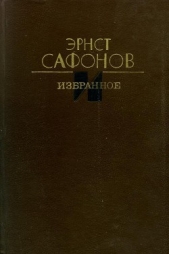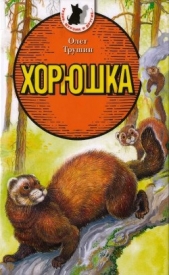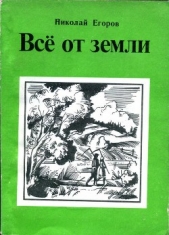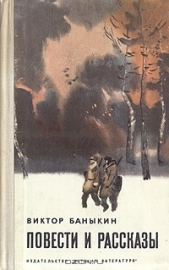Софринский тарантас

Софринский тарантас читать книгу онлайн
Нравственной болью, переживанием и состраданием за судьбу русского человека полны повести и рассказы подмосковного писателя Александра Брежнева. Для творчества молодого автора характерен своеобразный стиль, стремление по-новому взглянуть на устоявшиеся, обыденные вещи. Его проза привлекает глубокой человечностью и любовью к родной земле и отчему дому. В таких повестях и рассказах, как «Психушка», «Монах Никита», «Ванька Безногий», «Лужок родной земли», он восстает против косности, мещанства и механической размеренности жизни. Автор — врач по профессии, поэтому досконально знает проблемы медицины и в своей остросюжетной повести «Сердечная недостаточность» подвергает осуждению грубость и жестокость некоторых медиков — противопоставляя им чуткость, милосердие и сопереживание страждущему больному.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он черкесское седельце на боку несет,
А тесмяная уздечка на правом ухе висит.
Шелковы поводьица ноги путают.
За ним гонит млад донской казак,
Он кричит-то своему коню верному:
«Ты постой, погоди, душа-верный конь,
Не покинь ты меня, одинокого,
Без тебя не уйтить от чеченцев злых…»
Кончив одну песню, он начинает другую. Он может петь до изнеможения, или, как говорится в народе, до посинения. И где только силы у него берутся.
— Хороший старик, ничего не скажешь, — говорят после больные.
Во время пения поражали всех не только слова песни, но и глаза Ивана Алексеевича. Они были ясные и очень живые. Взгляд их хотя и был решителен, но столько в нем было детской простоты и непосредственного очарования, что при виде всего этого дух захватывало. И сердце сразу же как-то по-особому дрогнет и сожмется в тоске по русскому народу, умевшему так мастерски петь. Все разом забудется, уйдет болезнь, печаль, горе. Бисеринкой вспыхнут в радости глаза. Заалеют щеки. Покроется испариной лоб. Кто-то не спеша, чтобы не потревожить певца, раз-другой перекрестится. И зашедшие в душу слова зазвенят, задрожат; прибойной волной очистят и выметут из души весь сор впустую прожитого времени, дав прорасти и зацвести зернышкам предков. Неповторимы и диковато-красивы казачьи песни. Точно заревой свет взбаламучивают они и пьянят.
Софринская сельская больница очень популярна в области. И хотя бедное в ней оборудование, да и медикаментов почти всегда не хватает, но все стремятся в нее попасть. Спросишь порой больного, ну почему ваш брат желает попасть только в Софринку, так сокращенно величают больницу. А он ответит:
— Там лошадка есть и старичок конюх, такой презабавный, — и, с почтением посмотрев на меня, добавит: — Он с руки разрешает ее кормить, а если пожелаешь, то и верхом можно прокатиться.
Полдень. Конец лета. Иван Алексеевич перегружен, везет из сельповского магазина огромный ящик с хлебом. Лошадка в гору упирается, но не подводит, шагает бойко.
Спрыгнув с телеги, старик на ходу вытирает потную лысую голову. От жары нос его немного облупился. Зато правый ус залихватски закручен на казачий манер.
Проголодавшиеся больные вышли из корпусов. Увидев лошадку, радостно заулыбались. Молоденький доктор, глядя на них, постоял несколько минут в раздумье, а затем сказал:
— Оказывается, и лошадка лечит.
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЬЯ
Он рисовал картины, затем продавал их. Деньги и отдавал жене, очень скромной и слабой женщине. И вое бы и дальше у него было хорошо, если бы вдруг в один из дней она не ушла.
Это произошло в жаркий день июня, когда он повез в Москву продавать картину, на которой синее небо было пристегнуто булавкой к земле. Нет, он не был ни модернистом, ни авангардистом. И эта картина не была характерна для его творчества. Он нарисовал ее просто так, как говорится, в охотку. Центром картины была булавка, благодаря которой небо было пристегнуто к земле, наполненной людьми. Чуть выше булавки в небе, словно чайка над водой, летала белокурая женщина с красным лицом. Жена сразу же обратила на нее внимание. И в один из вечеров, когда художник при свете электрических ламп дорисовывал картину, она подошла к мольберту и, указав на женщину, сказала:
— Это что еще за дурочка?..
— Это не дурочка, это мираж… — растерянно ответил он.
— А в сущности мне все равно… — усмехнулась она и опустила руки в карманы халата. — Мираж ли это, ангел. — Затем, вздохнув, спокойно добавила: — Занялся бы ты лучше гимнастикой… — и, не дожидаясь ответа и не обращая на него внимания, отвернулась к окну.
— Это женщина моего детства… — попытался он возразить.
В каком-то разочаровании она повернулась к нему и, окинув его взором, полным обиды, произнесла:
— Как был ты олухом, так им и остался… Ну а еще ты не живешь, а играешь. Боже, как мне тяжко с тобой.
Зная, что в такие минуты она может заплакать, он грубо, по-мужски оборвал ее:
— В таком случае извини.
И, отложив в сторону кисть, закурил. Голова его закружилась. И, чтоб успокоить себя, он сел в кресло.
Нервно сняв с себя белый халат, она вышла из комнаты. Стало тихо. И только тут он понял по оставшейся в комнате ее медицинской сумочке, что жена пришла из поликлиники.
— Она не поняла меня… — усмехнулся он.
И ему вдруг вновь захотелось вернуться в свое детство, вспомнить мать, которая жила теперь от него далеко-далеко, и родную деревню, где солнце светит целый день и где люди поздно засыпают и рано встают.
Слышно было, как на кухне жена деловито копошилась, звенела тарелками и ложками. Он представил черную пахучую пенку. И ее полные губы, прикасающиеся к краешку чашечки, переполненной кофе.
«Неужели она не поняла, — вздохнул он, — что летающая женщина это есть она сама?»
Сигарета в руке догорала. С горечью усмехнувшись, он вновь вернулся в детство. Люди на картине были из его деревни. Они смотрели на него с радостью, ибо были очень довольны, что он их всех вернул к жизни. Дед Лешка, сторож колхозного сада, улыбается. А вот Коля-киномеханик, окончивший впоследствии мореходку и ставший капитаном, наоборот, серьезен. Рядом с ним стоит он сам в коротких штанишках и латаной рубашке, с восхищением смотрящий на соседского долговязого Ваську, который впервые сказал ему, что небо подпирается телеграфными столбами, а луна есть фонарь, который бог вывешивает над землей почти каждую ночь. Чуть левее стоит Маша, которую он любил. Рядом с ней председатель сельсовета Михайло Михайлович. Как всегда, от волнения раскрасневшийся и с оттопыренными ушами. Он никогда никого за свою жизнь так и не обидел, хотя иногда случалось, что для приличия и покрикивал.
Правее деревеньки дорога. На ней стоит толпа ребятишек уже забытых по именам, но зато очень хорошо запомнившихся ему по лицам. Все они его, Кольку-художника, дожидаются, чтобы он раскрасил крылья диким голубям, которых те наловили. Рядом с ними в теплом свитере на земле сидит его родной дедушка по матери, Максим. Его нет. Он погиб на войне. Вещей тоже не осталось. Все износилось другими. Зато остались его фотографии с фронта, на которых он весел и с изумительной русской улыбкой. И лишь на одной, самой желтой фотографии глаза его полны слез, хотя и на ней он все так же браво улыбается. За спиной его серое поле и березка, на которой всего лишь один лист.
Художник смотрит на знакомых ему людей, и на душе его светлеет.
Окно давным-давно открыл ветер. Бегая по комнате, он приподнимает листы ватмана, сушит руки и губы. Вскоре темнеет, и он незаметно засыпает в кресле. По дому носится аромат кофе.
В полночь жена входит в комнату мужа. Удивленно смотрит на него.
— Надо же, весь дом выстудил… — и, плотно закрыв окно, уходит.
В понедельник утром, когда он повез свою картину продавать, она, забрав все вещи, ушла.
Вечером, открыв дверь квартиры, он ахнул. Все комнаты были пусты.
— Даже не предупредила… — прошептал он.
Она уходила каждый год. Погуляет, побродит с месяц и вновь возвращается. Теперь же она ушла с вещами.
Так и не поняв, зачем она все это сделала, он, сняв галстук и рубашку, пошел в ванную, где, открыв на всю мощь кран с холодной водой, подставил под колкую, пронзительно шипящую струю голову. На некоторое время пришел в себя. Вытерев тело насухо, сел в кресло, как сидел он в нем когда-то перед ее уходом. Свет в комнате не включил. И со стороны казалось, что сумрак какими-то длинными руками касается его, а он не боится его, как обычно боятся люди, на которых нашло горе, а, наоборот, сливается с ним и даже тянется к нему и радуется.