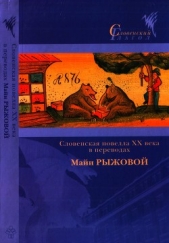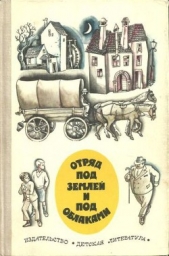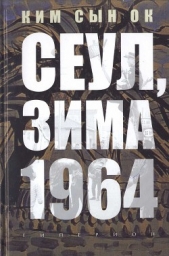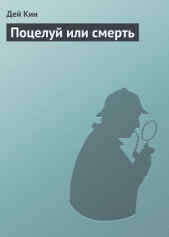Сундук с серебром

Сундук с серебром читать книгу онлайн
Из богатого наследия видного словенского писателя-реалиста Франце Бевка (1890—1970), основные темы творчества которого — историческое прошлое словенцев, подвергшихся национальному порабощению, расслоение крестьянства, борьба с фашизмом, в книгу вошли повести и рассказы разных лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я знаю, где тебе могли бы дать, — слабым голосом произнесла она. — Пологар не откажет. Два раза мне давал… Жалко мне тебя.
Михале отвел взгляд, ему было неприятно. Она глядела на него с той же нежной, преданной любовью, как в первые дни после венчания. В голосе ее звучала такая забота, будто он был беспомощным ребенком. Постепенно вспомнились прежние дни, и снова в нем заговорила совесть. Да, теперь ему понятно, где она два раза доставала деньги. Может, она хотела избавиться от долга, вот и надумала продать корову. Он снова потер лоб, словно хотел стряхнуть что-то неприятное. «И чего это она, черт побери, — сердито подумал он про себя, — меня жалеет? Вот еще…»
Пологар, ни слова не сказав, взялся за кошелек. Широкий, словно ствол дерева, резкий и самоуверенный, он стоял перед Михале и глядел поверх его головы… Пусть Михале и впредь приходит, если нужда случится; в беде он охотно поможет. Михале удивился. Это ведь человек, который и матери Божьей кусочка хлеба не подаст! Горько сделалось у него на душе, и всю дорогу домой в голове туман стоял… Он добрался до своей хибарки, высыпал деньги на стол и забыл обо всем.
С тех пор он постоянно ходил к Пологару, будто там лежало неисчерпаемое сокровище, о котором, кроме него, никто не знает. В середине зимы его снова потянуло к вину; он пошел в корчму и три дня пил. Малия ничего не сказала, только взглядом мягко упрекнула его. Жизнь Михале, несмотря на болезнь жены, текла гладко, зима убаюкивала его и вернула прежнюю беззаботность. Но однажды, в мае, когда в кладовке не осталось ни крошки муки, он приплелся домой, совсем пав духом. Свалился на лавку, руки, как плети, повисли между колен. Пологар не одолжил ни лиры. Дал, говорит, уже и так гораздо больше, чем стоит все твое добро. И выгнал Михале.
Малия в тот день была особенно плоха, с трудом повернула она голову и долго смотрела на него больными измученными глазами, а он, понурившись, сидел на лавке.
— Мне скоро ничего не будет нужно, — сказала она тихо. — Тебе… тебе самому придется заботиться о себе… как сможешь и сумеешь…
Михале вздрогнул. Мысль, давно и глухо зревшая в его душе, явилась вдруг как совершенно осознанная угроза.
— Не заболей ты, ничего этого не было бы! — затопал он ногами.
Больная широко раскрыла глаза. От удивления у нее перехватило дыхание, грудь, как у мертвой, мирно покоилась под одеялом. Что он сказал? Боже мой, что он только говорит! Чего он еще хочет? Тихое презрение, многие годы оседавшее на дне души и подавленное любовью, сейчас отвратительной пеной всплыло на поверхность. Прежде она никогда не упрекала его, хотя он часто причинял ей боль, но в эту минуту в ней сразу умерли все добрые чувства к нему, вся нежность. Она собрала последние силы, в груди у нее заклокотало, она снова начала дышать.
— Михале! — ее хриплый голос прерывался. — Болезнью меня попрекаешь, точно я в ней виновата… Это мне надо тебя упрекать… Да, мне… Ты не мужчина, ты тряпка! Ты никогда не был мужчиной, как другие…
Михале встал. Изумленно и растерянно смотрел он на жену, а она вдруг неожиданно смолкла, словно исчерпала слова и силы. И закрыла глаза, казалось, ничего больше не хотела ни видеть, ни слышать, только тяжело дышала. Не ожидал он таких слов. Все, что угодно, только не это, а тем более от Малии. Теперь, когда он и сам ощущал свою ущербность, слова жены поразили его в самое сердце. От тоски он не мог ни двинуться, ни слова сказать.
Вскоре, так и не проронив ни слова, Михале вышел из хибарки. Взял топор и побрел в лес за домом. Обида сменилась ненавистью к жене и усиливалась с каждым мгновением. Он так яростно махал топором, словно собирался сокрушить все вокруг. Щепки летели ему в лицо, застревали в волосах.
Под вечер с криком прибежала Минца:
— Михале! Скорее домой! Жена умирает!
— Ну и пусть себе сдохнет!
Ничто не шевельнулось в нем, когда он произносил самые скверные слова в своей жизни. Не скоро начал он оттаивать. Совесть проснулась лишь тогда, когда воображение нарисовало картину смерти.
Малию он застал при последнем издыхании. Она лежала на спине, глядя в потолок, предсмертные капли пота орошали ее лоб. Минца совала ей в руку свечу, плакала и громко молилась. Его тронула эта сцена, он проглотил обиду, грудь залила волна горечи и сочувствия.
— Малия!
Больная, судя по всему, уже не слышала его. Или не хотела слышать. Недвижно глядела в потолок. Так и умерла.
Следующий день был погожий, солнечный, настоящий майский день, и поэтому на похороны пришло очень мало народу. Михале, совершенно потерянный, стоял у гроба в кучке родственников и старух. Худые щеки его еще сильнее ввалились, рыжеватые усы обвисли. В глазах было больше испуга, чем тоски. «Погоди, Малия, увидишь теперь, какой я мужчина», — вертелось у него в голове. Он и сам верил, что отныне будет другим человеком, пусть только окончатся эти похороны.
После убогих похорон он вместе с Ангелцей, приехавшей из города, вернулся в свою хибарку таким же, как и раньше. Робко присел на лавку, втянул голову в плечи. И тут только осознал свое одиночество, в глазах его засветилась истинная, теплая печаль.
Углубившись в мысли, исподлобья и сурово смотрел он на барышню, семенившую в светлых туфельках по неровному полу. Раньше он лишь изредка вспоминал о ней, о том времени, когда она, крохотная, быстрая, как мышонок, бегала около хибары. Девочка его боялась, всегда испуганно глядела на него своими большими глазами. Вернувшись домой после войны, он был поражен. Ангелца за четыре года сделалась девушкой. Уехала в город, писала матери; иногда он случайно узнавал, как она живет. Она пополнела. В городской одежде казалась ему чужой, он терялся перед ней. Дочь напоминала ему Малию, то же лицо, те же волосы, те же глаза. И почудилось, будто что-то забытое явилось издалека, чтобы ласково коснуться его души.
— Теперь тебе придется остаться дома, — сказал он, вздохнув. — По-другому не выходит.
Ангелца повернулась на каблучке и смерила его взглядом с ног до головы.
— Это вы всерьез? — удивилась она. — Чтоб я вернулась в эту хибарку? — И отвернулась. — Больно надо опять мешки таскать!
Покачиваясь, отошла в угол и стала рассматривать картинки на стене. Михале следил за ней глазами. Затаенная мысль, что дочь могла бы заменить ему Малию, навсегда исчезла. Ангелца только внешне походила на мать, а по характеру — вся в него. Лишь сейчас он понял это. Ей нет дела до земли, ее тянет к легкой обеспеченной жизни. Это ему нравилось, но, сообразив, сколько забот ляжет на него, он схватился за голову.
— Да мне со всем не справиться, — заохал он.
— Тогда продайте! Продайте этот нищенский клочок земли!
— А что потом? Чем жить?
Ангелца смахнула пыль с лавки и села. Взглянула на отца. Каким он казался ей беспомощным и неразумным, словно ребенок, заблудившийся в лесу!
— Я выйду замуж, — сказала она. — Думаю, что скоро выйду. Тогда возьму вас к себе. Как только немного устроюсь, напишу… Наколете мне иной раз дровишек, плохо вам не будет…
Михале уставился на дочь. Правда это, или она лжет из сочувствия? Он охотнее верил хорошему, чем плохому. И не ломал голову, за кого она выйдет; перед глазами у него стоял образ барыни, настолько богатой, что она и ему сможет под старость уделить кусок хлеба. Он всегда любил мечтать. Тихая, ясная улыбка скользнула по его лицу.
— Ну, раз так… — пробормотал он.
Дочь уехала. Михале в одиночестве стоял перед домом и с тоской в глазах смотрел на заброшенную землю. Она принадлежала когда-то Гричару. Поссорившись с сыном, старый Гричар поставил хибару. Сени, комната, погреб и хлев. Отрезал себе кусок леса, кусок луга и пашни. Все это он обнес оградой, и получилась маленькая усадьба. Участок от силы мог прокормить двоих, если удавалось еще где-нибудь подработать. Гричар двадцать лет прожил в этом уголке, а потом умер. Молодой Гричар, которому вечно не хватало денег, продал и домик и землю отцу Михале. Для него это было тем проще, что его не мучили угрызения совести, ибо через столько лет ему странной казалась даже мысль, что эта земля его.