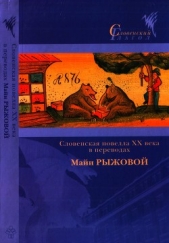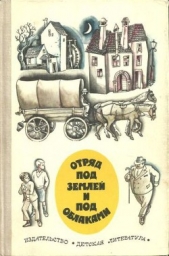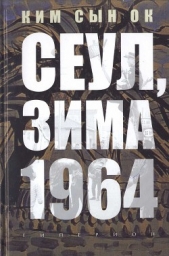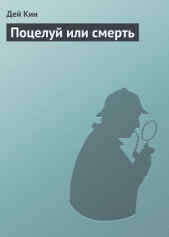Сундук с серебром

Сундук с серебром читать книгу онлайн
Из богатого наследия видного словенского писателя-реалиста Франце Бевка (1890—1970), основные темы творчества которого — историческое прошлое словенцев, подвергшихся национальному порабощению, расслоение крестьянства, борьба с фашизмом, в книгу вошли повести и рассказы разных лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ребенка? Пять дней карцера!
Именно этого и ждали арестантки; случись что-нибудь другое, они б молчали, покорно опустив головы. Слова смотрителя были каплей, переполнившей чашу терпения, и долго сдерживаемые мучения хлынули через край. Тильда опять просила вернуть ей ребенка, но ее мольбы перекрыл пронзительный крик Нады: «Отпустите нас! Убирайтесь отсюда, звери, сволочи! Вон, вон!» И тут женщины, словно по команде, подхватили ее вопль, замахали руками, закричали, заголосили. Это была мгновенная вспышка той дикой ярости, которая редко, но тем страшнее охватывала заключенных. Все, что так долго сдерживалось, вырывается наружу; арестантки беснуются и кричат, искусывают себя до крови и бьют все, что попадается под руку. Затаенная тоска по свободе вспыхивает, как порох.
Истерические вопли из камеры «благородных» разнеслись по всему этажу. В других камерах, конечно, не знали, в чем дело, но в душах всех узниц жило, затаившись, то же жуткое чувство, которое долетевший до них безумный крик точно спустил с привязи.
Дикие вопли неслись из всех камер, гремели двери, кувшины со звоном летели на пол. Бушевали и два первых этажа, где содержались мужчины. Вся тюрьма сотрясалась от ударов. Слов разобрать было нельзя, слов больше не было…
Смотритель и надзирательницы в испуге отступили. Опасно было приближаться к людям, дико протестовавшим против насилия над человеческой свободой.
Постепенно крик стих, слышен был протяжный плач одной арестантки, но вот и она смолкла. Наступила полная тишина, как бывает после грозы. Все ждали чего-то, снова отдавшись своей судьбе.
Тильда, сжавшись в комок, сидела на койке, отупелыми глазами глядя в пространство.
Дверь опасливо приоткрылась, надзирательница заглянула в тишину.
— Матильда Орешец! — крикнула она. — Ступайте за мной!
Тильда думала, что ее поведут в канцелярию или в карцер, и все же с готовностью последовала за надзирательницей. К ее удивлению, горбунья направилась к больничной палате. Тупой страх перед наказанием сменился тоскливым предчувствием. Силы вдруг покинули ее, и она с трудом держалась на ногах.
Тильда вошла в палату и жадным взглядом окинула койки. На одной умирала чахоточная. На койке у окна лежал ребенок. Возле него стоял монах, по воскресеньям отправлявший службу в тюремной часовне. Увидев Тильду, он изобразил на лице сочувствие и двинулся ей навстречу.
— Я просил позвать вас, чтоб вы могли еще раз посмотреть на него.
До Тильды не сразу дошли его слова. При первом взгляде на ребенка она решила, что он спит, и успокоилась. Но, подойдя к койке, она все поняла. В муках выношенные мечты, надежды на лучшую жизнь — все рассыпалось в прах. Душа ее лишилась единственной опоры, ее не ждало больше ничего, кроме страшных часов без сна, без утешительных дум. Тильда скрестила на груди руки, тяжкое обвинение сорвалось с ее губ.
— Вы убили моего сыночка!
— На то была Божья воля, — прогундосил монах в рыжую бороду.
Тильда склонилась над мертвым ребенком. Терзавшие ее весь день предчувствия, истерический крик вконец истощили ее душу и тело. У нее уже не осталось слез, и все же она плакала. Случилось то страшное, чего она боялась больше всего на свете, и этого уже никогда не исправить.
Тильда выпрямилась и долгим взглядом посмотрела на монаха и надзирательницу. И вдруг ей показалось, что перед ней стоят все, кто мучил ее, как на дыбе, и ей захотелось бросить им в лицо горькие слова, их обвинить в убийстве ребенка, за которого она цеплялась всей душой, как утопающий за соломинку. Она хотела спросить их, почему ее послали в эту грязь, а не к цветам, если они и впрямь желали ей добра и исправления, — ведь в душе своей она наказала себя во сто крат горше, чем способны ее наказать все те, кто вершит суд над людьми… Она молчала, хотя в ней бушевала буря. Тело ее было измучено до предела; внезапно в окне начал меркнуть серый день, и на нее надвинулся мрак…
Она потеряла сознание.
Через три дня Тильда предстала перед судом присяжных. На вопросы она отвечала рассеянно, словно все это ее нисколько не касалось. О свободе она не думала. Она пережила ужас насильственного зачатия, родовые муки, страшные мгновенья убийства и поджога, горечь обманутой любви, испытала сладость материнства и горе утраты. Что может быть хуже этого? Чего стоят после всего этого четыре года тюрьмы?
Когда ей объявили приговор, она улыбнулась так странно, точно душа ее жила на свете уже сто лет.
Перевод И. Макаровской.
Бедняк Михале
Весной, в мае, когда все холмы уже покрылись зеленью, бедняк Михале схоронил свою жену Малию.
Как неожиданно она свалилась, так неожиданно и умерла. Ее смерть, вернее, уже первый час болезни и были началом несчастий.
Немногим больше года назад — на следующий день после Юрьева дня, когда в городке бывает ярмарка, — Михале поднялся чуть свет, еще солнце не выглянуло из-за горы.
— Слушай-ка, — сказала ему жена, когда он вышел в сени, — ступай, отведи корову на ярмарку!
И пристально взглянула на него своими большими карими глазами. Казалось, она хотела прибавить еще что-то важное и горестное, но в последний момент раздумала.
Низкорослый, невидный, в одежде не по росту, похожий на паренька, стоял он перед ней. Его обычно озорные глаза музыканта на мгновение посерьезнели. Он не скрывал своего удивления.
— Но почему я, а не ты?
— Что-то плохо мне.
Малия в самом деле была немного бледна, никогда глаза ее не были такими затуманенными и растерянными. Она отвернулась к очагу, а Михале перешагнул порог и завернул за дом.
Думать всегда было для него мукой, вот и теперь он нахмурил лоб. Продавать корову весной, когда она день ото дня дает все больше молока? Да, в последние годы им трудно жилось, все труднее и труднее. Неужто дела совсем плохи? Малия уже два раза брала взаймы много денег, он никогда не спрашивал у кого. Все заботы по хозяйству он переложил на ее плечи, но слушался ее беспрекословно. И что бы она ни делала, со всем был согласен. Так почему же она с вечера не сказала ему о корове? Может, ей еще не было так плохо. Небось целую ночь думала, но другого выхода не нашла.
Пока жена стряпала, он переоделся. После завтрака пошел в коровник, привязал корове на рога веревку и вывел ее на пригорок у дороги.
Малия вынесла святой воды, перекрестившись, покропила ею и корову и мужа.
Михале был уже довольно далеко, когда она крикнула ему вслед:
— Не уступай! Не отдавай за бесценок!
На ярмарку он попал поздно, половина народа уже собиралась разойтись по корчмам. Покупатели окружили корову, разглядывали ее, ощупывали, выискивали недостатки, стараясь сбить цену: «Сколько он просит за это пугало?» Михале отмалчивался, улыбка дрожала на его впалых щеках. Покупатели сразу поняли, что имеют дело с человеком нерешительным, безвольным, он, поди, ни продать ни купить не умеет, а кричать и торговаться ему и вовсе противно. На него налетели перекупщики, дергали его за руки, орали, будто дело шло о спасении души. У бедняги Михале отлегло от сердца, когда наконец ударили по рукам.
— Мало запросил, — сказал ему сосед, проходя мимо. — Скотинка-то совсем неплохая.
Михале пожал плечами.
Пошли в корчму. Под конец он остался один у залитого вином стола. Покупатель и маклак увели корову, а у него остались деньги, чувство удовлетворения и легкое опьянение. Он заказал еще вина. Выпил залпом, словно весь день его терзала неутолимая жажда. Вино ударило в голову, но сознание еще не совсем замутило. Тихий голос сердца шептал ему, что пора вставать и идти домой; но вскоре этот шепот заглушил другой голос, постепенно, вот уже несколько дней пробуждавшийся в нем. Он продолжал сидеть и пить.
Михале не был пьяницей, что просиживает в корчме каждое воскресенье, а нередко и рабочий день. После тяжелой работы до пота он любил пропустить стаканчик-другой ракии, и только. До войны его почти никогда и не видели пьяным. Но после ранения, — волосы закрывали страшный шрам, — в нем наступила перемена. Иной раз месяцами он не притрагивался к спиртному — противно было. Но три или четыре раза в год его охватывало смертельное желание выпить. Он беспокойно бродил, не находя себе места, мелкие капли пота выступали на лбу, кровь бурлила. Шел к соседям, просил выплатить заработанные деньги, потом пил три-четыре дня, иногда меньше, иногда больше, пока не спускал все до последней лиры.